
Е.В.СУББОТСКИЙ. РЕБЕНОК ОТКРЫВАЕТ МИР
КНИГА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТСКОГО САДА
МОСКВА
ПРОСВЕЩЕНИЕ
1991
ББК 88.8
С89
Рецензенты: доктор психологических наук, действительный член АПН СССР, профессор В. В. Давыдов; член-корреспондент АПН СССР, профессор, директор НИИ дошкольного воспитания АПН СССР Н. Н. Поддьяков
Субботский Е. В.
С89 Ребенок открывает мир: Кн. для воспитателя дет. сада.— М.: Просвещение, 1991.— 207 с.: ил.— ISBN 5-09-002817-6
В книге в популярной и увлекательной форме освещены психологические аспекты освоения ребенком окружающего мира. Затронуты вопросы развития и воспитания личности, формирования представлений о физических и психических явлениях. Рассмотрены также проблемы воспитания и обучения детей у разных народов в различные исторические эпохи.
Книга адресована воспитателям детского сада и родителям.
ББК 88.8
ISBN 5-09-002817-6
© Субботский Е. В., 1991
Оглавление
О ЧЕМ И ЗАЧЕМ (введение в книгу)
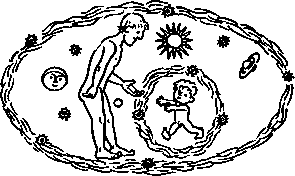
Есть в психологии зрительного восприятия так называемые невозможные фигуры — предметы, которые могут существовать лишь на бумаге. Чем дольше смотришь, тем больше удивляешься. Кажется, будто пришли они из другого мира, живущего не по нашим привычным законам. Но видно это не сразу. Умело «маскируются» они под самые обычные, реальные предметы. Да только ли в восприятии существуют эти осколки «странного мира»?
С раннего детства у меня сохранилось несколько образов. Вот большой, грузный человек переезжает меня вдоль пояса на велосипеде; мимо идет отец, но, равнодушно скользнув взглядом, исчезает вдали. Вот из разбитого соседской девчонкой носа ручьями льется кровь, заполняя до краев объемистое ведро. Вот близкий, родной человек, идя по шпалам, вдруг спотыкается об острый костыль — и кожа, подобно чулку, спадает с раненой ноги. Невозможно? Да, невозможно. Что-то, конечно, было, но не в такой степени. Тут изрядно поработала детская фантазия. Однако до чего же ярки эти образы! До чего же реальными, подлинными кажутся они чувству, лишь разум упорно твердит «нет».
Почему-то эти образы застряли в памяти, удержались на поверхности сознания. Удивительно — ведь их ровесники давно уже в пучине забвения. А эти, как странные морские животные, явившие себя из глубин, молчаливо говорят мне: «Смотри, там, откуда мы пришли, есть другой мир. Мир, совсем не похожий на твой, привычный. Мир этот не так уж и далек. Он совсем рядом. Но тебе в него не попасть».
Да, этот мир — мир детского сознания — недалек. Он рядом, он внутри нашего, взрослого мира. Он смотрит на нас глазами ребенка. Говорит нам его голосом. Выражает себя в его поступках. Когда-то он был и нашим миром. Но мы ушли, а назад пути нет. Но почему же хочется вернуться в него? Почему для многих из нас кажется он утерянным раем, золотым веком нашей жизни?
Как же обмануть время? Как заглянуть в этот мир? Способ только один: жить, говорить, действовать с его посланцами — детьми. Правда, никогда уже не сможем мы заглянуть в него «изнутри». Захлебнуться детским восторгом, увидеть новую, не «запыленную» памятью и опытом, планету. Но хотя бы «извне», хотя бы косвенно по признакам, намекам «расшифровать» его. Раскрыть заветную дверь в мир детского сознания. Не заглянув в этот мир, нельзя не только воспитывать других — невозможно понять самого себя.
Мир этот сложен и содержит в себе другие миры. Это — мир общения ребенка с людьми, мир социальных взаимоотношений. Как воспринимает ребенок других и самого себя? Как познает добро и зло? Как и почему прикасается к сокровищам нравственности? Когда и как становится независимым? Как возникает и развивается его личность?
Это — мир предметов, мир познания. Как постигает ребенок идею физической причинности? Почему изгоняет из реального мира волшебников и фей? Как различает мир объективный, внешний, и свой субъективный, внутренний, мир? Как решает для себя вечные человеческие проблемы: проблемы истины и существования? Как соотносит свои ощущения с вызвавшими их предметами? По каким признакам отличает реальность от фантазии?
Это — мир истории и культуры. Как и любой человек, ребенок невидимыми нитями истории связан с нашими далекими предками. С их традициями, культурой, мышлением. Живя в настоящем, он держит в руках эти невидимые нити. Ребенок — и никто другой — свяжет их с нитями будущего. И понять детство вне его истории невозможно. Как и когда возникло современное детство? Чем оно отличается от детства наших далеких предков? Как изменяют история и культура представления людей о ребенке, способы его воспитания и обучения? Как работает «машина детства»?
Вопросы эти волновали меня давно. Очень быстро я понял, что их простота — лишь видимость. Как и природа, психика человека нелегко выдает свои тайны. Месяцы и годы проходят, прежде чем удается найти то единственное, непротиворечивое объяснение. А каков итог?
Статья в научном журнале, диссертация, в лучшем случае — специальная книга. Все это — достояние узкого круга специалистов. Минуют десятилетия, пока добытые знания дойдут до адресата, до тех, кто непосредственно участвует в процессе формирования детского сознания: родителей, воспитателей, педагогов. Но ведь эти знания нужны сейчас. Они необходимы и воспитателю детского сада, и школьному учителю; могут пригодиться детскому писателю и художнику — оформителю детских книг. Перестройка, непрерывно происходящее обновление жизни — это ведь и перестройка сложившихся духовных ориентаций, в том числе и взглядов на процессы обучения, воспитания, общения. Это — борьба точек зрения, противоборство разных тенденций, плюрализм мнений в вопросах воспитания и обучения. Это — преодоление консервативных подходов к воспитанию, десятилетиями укоренявшихся в нашем сознании. И все это должно происходить «здесь и теперь» — в настоящем, а не в далеком и неопределенном будущем.
Так родилась эта книга. В основном она содержит описания моих собственных опытов и размышлений. Рассказывается, конечно, и о работах других ученых, советских и зарубежных. Цель книги не только в том, чтобы предложить читателю сумму научных сведений или рекомендаций. Прежде всего мне хотелось подумать имеете с воображаемым собеседником, поговорить, поспорить. Может быть, кого-то это побудит к самостоятельным размышлениям о ребенке и его мире. Может быть, поможет чуть-чуть изменить привычный взгляд на ребенка. А впрочем, если кому-то эта книга покажется просто любопытной, то и этого будет достаточно.
КАК РОЖДАЕТСЯ ЛИЧНОСТЬ?
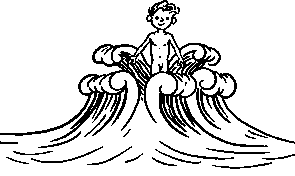
Нередко в беседе с родителями приходится слышать: «Сын стал упрямый, сладу нет, что делать?»; «А мой очень робкий, обидят его — сдачи дать не умеет, как с ним быть?»
Подобные вопросы затрагивают самую сложную и малоисследованную область человеческой психики — личность. Характер, эмоциональные переживания, потребности и мотивы поведения — все это относится к сфере личности. Веками кораблям науки удавалось обходить это «белое пятно», отдавая его на откуп мудрецам, писателям, поэтам. И все же время заставило психологию пуститься в трудное плавание: слишком важные проблемы стоят перед современным обществом, чтобы по-прежнему решать их «на глазок».
Проблемы эти, и прежде всего проблемы, связанные с воспитанием детей, возникли не на страницах ученых книг, не в тиши профессорских кабинетов. Они рождены самой жизнью. Вот почему всякий культурный человек, как бы далек от психологии он ни был, не может сейчас обойтись без знаний о том, как формируется личность.
Мы не претендуем здесь на целостное описание личности ребенка, такое описание не вместили бы и десятки пухлых томов. Скорее, это размышления психолога по поводу некоторых актуальных проблем развития личности.
Легко ли родиться?
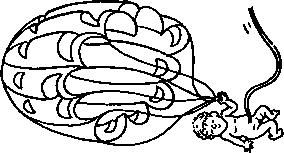
Трудно вам было родиться? Что бы вы ответили, услышав подобный вопрос? Наверное, пожали бы плечами: «Да как-то не понял, не осознал в то время. А если и понял, то забыл». И я не помню. И вообще мало кто помнит свои ранние детские переживания, да и то, если они относятся к периоду не раньше 3-летнего возраста.
Как же все-таки узнать, переживает ли что-нибудь новорожденный? Чувствует ли он, например, удовлетворение, когда его кормят, или неудовольствие, когда его не кормят слишком долго?
Поскольку младенец — существо еще бессловесное, сказать нам об этом он не может. В науке же по отношению к бессловесным существам, животным например, вообще не принято употреблять термин «переживание». Рассказывают, что знаменитый физиолог Иван Петрович Павлов запретил своим сотрудникам пользоваться в лаборатории словами «чувствует», «думает», «переживает». С точки зрения физиологии животные (да и человек) не переживают, они реагируют.
Зато писатели не стесняются. Вот, например, рассуждения толстовского Холстомера:
«Знаю: теперь, как выедем на дорогу, он станет высекать огонь и закурит свою деревянную трубочку в медной оправе и с цепочкой,— думал мерин.— Я рад этому, потому что… мне приятен этот запах и напоминает много приятного; досадно только, что с трубочкой в зубах старик всегда раскуражится, что-то вообразит о себе и сядет боком, непременно боком; а мне больно с этой стороны».
Но оставим пока проблему «Думают ли животные?» и обратимся к новорожденному. И у него есть полный набор автоматических реакций — так называемых безусловных рефлексов. Положите его на животик, и он повернет головку вправо или влево: это — защитный рефлекс. Дайте ему опереться ножкой о ладонь — он продвинется немного вперед. Это — рефлекс ползания. Положите его на спинку и прикоснитесь к ладоням тонким стержнем — маленькие ручки тотчас обхватят его. Теперь можете поднять стержень, и малыш повиснет в воздухе. Это — хватательный рефлекс, или рефлекс Робинзона.
Возможно, эти рефлексы достались нам от наших предков — обезьян. Маленькой обезьянке, доведись ей родиться на дереве, было, наверное, очень важно поскорее ухватиться за шерсть матери: не дай бог упасть. Ребенку же, конечно, подобные рефлексы ни к чему: ему ничто не угрожает. Да и схватиться не за что. Поэтому рефлексы эти быстро отмирают.
Есть, однако, в этом наборе и совершенно необходимые для жизни «принадлежности»: дыхательный рефлекс, рефлекс сосания и некоторые другие. Попробуй, обойдись без них. Входит в эту группу и первый крик новорожденного — самый знаменитый рефлекс, воспетый поэтами и писателями всех времен и народов. Физиолог нам объяснит, как велико значение этого рефлекса: он и работе легких способствует, и дыхательную мускулатуру упражняет, и…
«Позвольте,— слышу я голос читателя,— вы что-то уж совсем в физиолога превратились. Выходит, что ребенок — вроде механический игрушки, только за веревочки дергай. А как же с переживаниями? Может, он кричит-то оттого, что ему холодно?»
Постойте, постойте… А ведь мысль-то, кажется, правильная.
Ведь никто не сомневается в том, что новорожденный и даже еще не родившийся ребенок обладает психикой. Конечно, это психика в ее первичных, зачаточных формах, мало похожая на психику взрослого человека, прошедшую огромный путь эволюции и сложных изменений. И все же именно из этих зачатков, как писал выдающийся советский психолог Л. С. Выготский, развиваются высшие психические функции человека. А раз новорожденный обладает психикой, то почему бы ему не иметь и первичных, зачаточных форм переживаний.
Такой же вопрос задал и французский ученый Фредерик Лабуайе в книге «Рождение без насилия».
«Страдает ли новорожденный?» — спрашивает он.
«Ну что вы,— ответит малосведущий оппонент.— Новорожденный не видит, не слышит, не понимает, у него нет сознания».
Нет сознания? Смотря что под этим понимать. У него нет слов — это верно. Но разве не бывает языка без слов? Если человек случайно глотнул кипяток, нужны ли ему слова, чтобы выразить свою боль?
Посмотрите на новорожденного в первые минуты его жизни. Эта трагическая маска лица, закрытые глаза, кричащий рот. Эта запрокинутая голова, руки, охватившие ее, ноги, напряженные до предела. Это тело, напоминающее спазм,— разве все не говорит, не кричит нам: «Не трогай меня, не трогай меня!» — и в то же время: «Не бросай меня, помоги мне!»
Ребенок не говорит? Неправда. Это мы не слышим его. Не ощущает? Тоже неправда. Он все ощущает. Вся боль рождения именно и состоит в безмерной интенсивности, удушающем богатстве ощущений. Они обрушиваются на малыша как лавина, как шквал.
Когда мы, взрослые, смотрим на мир, мы видим предметы: дом, дерево… Наши чувства организованы нашим опытом, «скреплены» словами, понятиями. Нам только кажется, что мы с детства видим мир таким. На самом же деле мы видим его сквозь «очки» нашего опыта, наших понятий. Они пропускают одно, ослабляют другое, задерживают третье. Страшно подумать, что стало бы с нами, если бы «очки» вдруг упали.
А новорожденный? Он не защищен. Он не успел надеть «волшебные очки». И мир обрушился на его органы чувств во всей своей целостности, тотальности, неорганизованности. Во всем многообразии и безобразии хаоса. Мгновенно, без всякого перехода. Ведь чувства малыша работают еще до рождения. Но там, внутри материнского лона, они надежно защищены от всех резких воздействий. И вдруг — плотина прорвана и бурный поток ощущений обжигает глаза, уши, кожу…
Ребенок не видит, он слеп — таково убеждение. «Ну что вы,— ответит оппонент,— все знают, что он видит». А зачем тогда яркие лампы, прожектора? Они нужны акушеру? Конечно. А ребенку? Нужны ли они ребенку? А может быть, вредны? Думаем ли мы о том, что чувствует, переживает ребенок?
Вот появилась голова ребенка. Видны широко раскрытые глаза… Они с силой закрываются. На лице малыша страдание. Раздается крик. О, этот свет, слепящий, обжигающий! Младенец чувствовал его еще там, в животе матери. Но там свет был мягкий, слабый… и вдруг вспыхнуло солнце… нет, не одно, не два — десятки солнц обожгли глаза. И малыш кричит. Ох как медленно, бесконечно медленно надо было бы давать этот свет!
Глух ли новорожденный? Не более, чем слеп. Слуховой аппарат ребенка функционирует задолго до того, как он появился на свет. Еще в утробе он слышал все звуки материнского тела, биение ее сердца, модуляции голоса. Он слышал и звуки, приходящие извне. Как рыба, плавал он в околоплодной жидкости, и звуки приходили к нему смягченные, укрощенные, измененные, проникнув сквозь толщу вод и мягкий экран материнского живота. И вдруг будто десятки громов обрушились на ребенка. Невыносимая боль пронзила уши. Мир кричит — ребенок кричит в ответ. Кто думает о том, что чувствует, переживает ребенок? Кто позаботился о том, чтобы соблюдать тишину в этот критический момент? Никто.
А кожа малыша? Тонкая, она будто обожжена, она содрогается от прикосновения. И эта кожа, не знавшая ранее ничего, кроме мягкого атласа слизистой оболочки, встречается с пеленкой, платком, тканью! Новорожденный идет в наш мир по ковру из шипов, продираясь сквозь заросли терний.
Но что эта боль по сравнению с той, которую причиняет ребенку… воздух. Обычный воздух, впервые наполняющий легкие. Да, кожа его чувствительна, ранима, но еще чувствительнее, ранимее нежная внутренняя ткань легких. Этот первый вдох! Он ранит куда сильнее, чем вдох едкого дыма костра. Он обжигает легкие, трахею. Все вмалыше сопротивляется ему, все протестует. Ребенок пытается вытолкнуть воздух, но должен вдыхать его снова и снова. И он кричит.
Но и это не все. Малыш появляется на свет, покрытый густым скользким жиром. Чтобы младенец не выскользнул, не упал, его берут рукой у основания стопы. Понятно — голова оказывается внизу. Этот захват прочен, удобен… для акушера. А для ребенка? Что он испытывает? Головокружение. Он как бы падает в пустоту.
Чтобы понять переживания малыша, прокрутим немного «машину времени» назад. В чреве матери жизнь ребенка делится на два больших периода. Первый — от зачатия до середины беременности. Сначала эмбрион неподвижен, как растение. Затем он превращается в фоэтус: «растение» становится «животным». Появляются движения. Фоэтус «чувствует» свою свободу. Он как бы плавает в воде, свободный, как птица, скользкий и подвижный, как рыба. Его благополучие, свобода безграничны. В этот период окружающее его пространство (мембраны и околоплодная жидкость) растет быстрее, чем он. Его «вселенная» расширяется.
Но наступает второй период — и все меняется. Фоэтус продолжает быстро расти, а окружающее его пространство растет очень медленно. «Вселенная» сжимается как шагреневая кожа. Трагедия начинается. Свобода движений исчезает. И наконец, он обнаруживает себя в «тюрьме». Да еще в какой. Стенки «тюрьмы» подступают вплотную к нему, сжимают его.
Долго он сопротивляется, протестует. Но что делать? Приходится привыкнуть. Он сжимается в комочек, подгибает голову, сгибает руки и ноги. Он продолжает расти. И вот однажды «тюрьма» оживает. Не желая больше держать его, она сама начинает сжиматься, стремится вытолкнуть. Вот сокращение уходит… Возвращается… Исчезает снова… Появляется опять…
Эти «объятия» слабы, и ребенок быстро привыкает к ним. Целый месяц сокращения, не ощутимые для матери, «приручают» ребенка. Интенсивность их медленно, но неуклонно возрастает. «Не бойся и привыкни,— как бы говорят они ему,— ибо тебе предстоит испытать еще более трудное время, когда начнется работа».
Но вот приходит день — и опять все меняется. «Тюрьма», доселе нежно обнимавшая ребенка, взбунтовалась. Она сжимает его все сильнее и сильнее, стремясь раздавить. Голова упирается в стенку. Неведомая сила давит так, что смерть кажется неминуемой. Отпускает, снова давит. Голова берет весь удар на себя. Она вот-вот вдавится в плечи, в живот. Страдание, боль достигает вершины.
И вдруг все взрывается. Вселенная залита светом. Нет больше «тюрьмы», нет неведомой страшной силы. Малыш родился. Он в ужасе: ничто более не касается его спины, головы, ничто не поддерживает его…
И в этот момент его берут за ножки и заставляют «нырнуть» в пустоту. Позвоночник, который был сжат, спрессован, скручен до предела, вдруг распрямляется. Голова, за секунду до этого державшая вес всего тела, вдавленная в него, вдруг повисает в пространстве. Это похоже на состояние ныряльщика, которого слишком быстро подняли из глубины вод.
Но где же он теперь, этот мученик? На весах. Сталь, жесткость, холод. Холод жжет, как пламя. И он кричит.
Снова его берут, кладут на стол, на пеленки. И вот он один, брошенный всеми, во вселенной, столь же враждебной, сколь непонятной. Он поджимает руки, ноги. Он возвращается в позу фоэтуса. Он хотел бы вернуться назад, в материнское лоно. Наконец покой. Ненадолго. Младенца одевают. Вещи жесткие. Он протестует, кричит. Кричит долго, насколько хватает сил. Напрасно. Постепенно впадает в дрему.
Вы говорите, ада не существует? Но он есть, и не там, не за порогом жизни, а в ее начале. Что если нас нагими поместить в холодильник вниз головой, заполнить пространство едким дымом, а затем ослепить прожекторами под громовые раскаты взрывов?
«Такое и в страшном сне не приснится»,— скажете вы. И тем не менее не то же ли испытывает ребенок, впервые увидевший свет?
Вы думаете, это не оставляет следов? Вам кажется, что это лишь неприятное мгновение по сравнению с долгим прошлым и еще более долгим будущим? Да, мгновение. Но не простое. Таких в жизни лишь два: рождение и смерть. Мгновение, когда устанавливается ритм дыхания. Мгновение первой встречи с миром. Страдание же никогда не проходит бесследно. И мы несем в себе его отпечатки всю жизнь.
Что же делать? Как превратить этот момент из страдания в радость? Что предпринять для того, чтобы ребенок сразу почувствовал себя дома и рождение было не насилием, а пробуждением от сладостного сна? Очень просто. Надо измениться самим.
Первое — свет. Погрузимся в темноту, оставим лишь маленькую лампочку. Да, нам станет труднее, но зато глаза ребенка не будут обожжены. Пусть мать, прежде чем увидеть малыша, потрогает его, ощутит тепло его тела, нежную мягкость кожи. В первые минуты он некрасив. Пусть познакомятся на ощупь. Оба только выиграют от этого знакомства в темноте.
Теперь о слухе: будем соблюдать тишину. Вот ребенок издает крик, другой и умолкает, успокаивается, он дышит, зевает, потягивается. Лицо его спокойно. Он «пробудился» от чудного сна.
Что еще? Терпение. Надо понять: есть два времени. Его и наше. Его — медленно текущее, тягучее, близкое к неподвижности. Наше — стремительное, быстрое, неистовое. Впереди нас — наши планы, позади — воспоминания. Мы всегда либо там, либо там и почти никогда — «теперь». Наши движения грубые, резкие, быстрые.
Как выйти из бурного потока времени? Просто. Мыслью и чувством соединиться с ребенком. Слиться в одно. Стать медлительным, почти неподвижным. Нас нет. Есть ребенок.
Вот он появился: сначала голова, затем руки, тело. Куда мы положим его? На живот матери. Там его место. Там все: и размер, и форма, и поверхность — «пригнано» к ребенку, «ждет» его.
Малыш еще связан с матерью пуповиной. Ее обрезание — важный этап. Сохранить ее как можно дольше — значит облегчить рождение.
Мы знаем: первый вдох обжигает легкие. До рождения ребенок и мать слиты в одно. Его температура равна температуре тела матери. Он живет в мире, где сглажены противоречия, контрасты, где нет резкой смены тепла и холода, темноты и света. Рождаясь, младенец попадает в мир противоречий, и самое первое из них — это вдох. Соединились два элемента: теплая кровь и прохладный воздух. Кровь, приходящая в легкие, бедна кислородом, богата углекислым газом. Кровь уходящая — наоборот. Она быстро разносит свое богатство по клеткам тела.
Во внутриутробный период функции легких выполняет плацента — особая ткань, с которой тело фоэтуса соединено пуповиной. Пуповина — это кровеносный сосуд: вена и две артерии в «футляре». Кровь обогащается кислородом в плаценте, но не входит в контакт с воздухом: это делают легкие матери. Мать дышит за ребенка.
Разрезать пуповину — значит отделить ребенка от матери. Это первый шаг к независимости, автономии, свободе. Но как сделать этот шаг? Бесконечно медленно или быстро, резко? От того, как мы сделаем это, рождение будет либо тихим пробуждением, либо трагедией.
В момент рождения ребенку грозит большая опасность — гипоксия (недостаток кислорода). Нервная система, мозг младенца очень чувствительны к ней. Малейший недостаток кислорода — и организм бьет тревогу: под угрозой жизнь!
Но природа предусмотрительна. Она сделала специальное устройство, чтобы избежать гипоксии. Малыш, рождаясь, получает кислород сразу по двум каналам: через пуповину из плаценты и через легкие. Выйдя на свет, ребенок еще связан с матерью: пуповина продолжает мощно биться в течение нескольких (4—5) минут. А раз так, раз опасности нет, малыш может спокойно, не спеша начать дышать. Кровеносная система имеет время подготовиться к тому, чтобы посылать кровь по новому маршруту. Постепенно, медленно, безболезненно ребенок начинает дышать.
Как достичь этого чуда? Очень просто. Терпением. Не делать ничего в течение 4—5 мин. Предоставить все самой природе. Ни в коем случае не спешить.
Ведь перерезание пуповины есть не что иное, как лишение ребенка кислорода. Удар по нервной системе. Она бьет тревогу: организм в опасности! Включаются все «аварийные системы». Спасение — в дыхании. И ребенок начинает дышать. Но такое дыхание — это способ избежать смерти, к которому прибегают в минуту ужаса, отчаяния. Это психическая травма.
А что будет, если мы не станем сразу перерезать пуповину? Мозг не испытает удара. Не будет угрозы гипоксии, не будет страха. Кровь меняет свой маршрут постепенно. Когда ребенок выходит, его грудная клетка, дотоле сжатая до предела, резко расширяется. Внутри создается пустота, куда нагнетается воздух. Это и есть первый вдох. Акт совершенно пассивный.
Конечно, это тоже «ожог». Малыш пытается с силой выдохнуть воздух. Раздается короткий крик. Пауза. Испуганный ребенок перестает дышать. Затем снова крик, два, три… И все. Дыхание установилось само собой. Младенец привык. Снабжаемый кислородом через пуповину, он начинает дышать. Сначала медленно, с остановками; затем дыхание становится чаще, свободнее, глубже. Теперь малыш испытывает радость от того, что раньше обжигало. Нет непрерывного крика ужаса, отчаяния, агонии. Есть короткий и резкий крик удивления и быстро проходящей боли.
Ребенок пришел в мир, не испытав разочарования. Ему хорошо. Постепенно пуповина перестает биться. Она отслужила, сделала свое дело. Теперь это кусок мертвой ткани, его можно отсечь.
Когда годовалый малыш делает первые шаги, мы подаем ему руку, чтобы он не упал. Пуповина — тоже «рука», которую мать подает своему младенцу в первые минуты его жизни. Отнимите резко руку, перережьте раньше времени пуповину — эффект будет одинаковым.
Итак, ребенок родился. Он — на животе матери. Свободно дышит. Приходит в движение. Вот рука его скользит по телу матери, останавливается… Оживает другая рука. Разгибаются и сгибаются ноги. Дадим им опору: подставим ладонь. Перевернем малыша на бок… Теперь на спинку… Обрежем пуповину. И все это бесконечно медленно.
Мать делает ребенку массаж — гладит по спине, животу. Тихо, медленно. Массаж напоминает сокращение матки. Малыш ясно ощущает, какие руки его касаются: любящие, нежные или безразличные, холодные. Сквозь руки матери идет поток любви, он успокаивает младенца.
Можно подумать, что рождение — акт, в котором ребенок не принимает «личного» участия. Он лишь пассивно подчиняется, а всю работу выполняет мать. Но это не так.
Ребенок не пассивен; он борется, делает усилия, чтобы родиться. Сердце его от усилий бьется сильнее. Внимательная мать чувствует, как малыш отвечает движениями на сокращения матки. Это его усилия. И вот он победил… и что же? Ребенок обнаруживает, что его мать исчезла, ощущает страдание и ужас. Кажется, если бы младенец мог, он бы воскликнул: «Я победил, но потерял мать. Я тут, но матери больше нет!»
Тут-то и нужно сразу успокоить малыша. Своими нежными, любящими руками мать без слов говорит ему: «Не бойся ничего. Мы спасены, мы живы, ты и я».
Вам кажется это фантазией, домыслом? Ведь ребенок не мыслит, не говорит. А разве для того чтобы переживать, нужно уметь думать? Разве наши мысли и слова не есть лишь «костюм», в который мы «одеваем» наши переживания?
Двое встретились. Теперь они должны расстаться; малыш покидает живот матери. Как сделать, чтобы этот новый шаг в свободу не нарушил спокойствия ребенка?
Очень просто. Пусть младенец и дальше встретит такое же тепло и нежность. Не будем класть его на холодные твердые весы. Тем более — на грубые, жесткие ткани. Положим малыша в воду. В маленькую ванну при температуре, близкой к температуре тела.
Малыш вернулся в воду. Он опять легок, невесом, свободен. Его радости нет предела. Все в его теле оживает. И — о чудо! — он широко раскрывает глаза. Этот первый взгляд! Он незабываем. Огромные, глубокие, серьезные глаза как бы спрашивают: «Где я? Куда я попал?»
Глаза ребенка полны внимания, «присутствия», удивления. Мы понимаем, что закрытыми их держал страх. И что рождение — лишь эпизод, а этот маленький человек существует уже довольно давно. Трудно не подумать: «Ведь он же видит». Конечно, видит не то и не так, как видим мы. Ребенок видит своим, ему одному присущим способом, который мы давно утратили.
Свободный от страха, пережив первый самостоятельный вдох, приняв новое как должное, ребенок исследует свое царство. Голова поворачивается налево, направо… Медленно оживает рука… Раскрывается и сжимается ладонь… Рука вытягивается, покидает воду, описывает дугу в пространстве, падает… Оживает другая рука… Теперь обе играют вместе, сталкиваются, расходятся, раскрываются, сжимаются, как таинственные морские цветы… Оживают ноги. Вот одна вытягивается, упирается в край ванны. За ней вторая… И вот уже все тело в движении. Ребенок полон радости, движения приятны ему.
Малыш играет. Еще нет 10 мин, как он родился. В тишине слышны всплески, изредка прерываемые короткими вскриками, похожими на восклицания удивления, радости. Он исследует пространство, свое тело. Он. очень внимателен, он целиком «здесь». Он — сама целостность, гармония движений.
Между тем оживает лицо… Рот открывается, закрывается… Губы вытягиваются… Язык высовывается, исчезает… Случайно одна из рук встречает лицо, скользит по нему, встречает рот… Ребенок сует туда палец и с наслаждением сосет. Рука уходит и снова притягивается ко рту. Да это, оказывается, вкусно!
Теперь надо снова расстаться с «морем», сделать еще один шаг. Покинув воду, младенец встречает нового «тирана» — свой собственный вес. Надо и это испытание превратить в удовольствие, в радость. Медленно вынимаем ребенка… Вот он почувствовал вес своего тела, издал короткий крик. Снова опускаем его в воду.
Поднимаем опять… Ощущение сильное, но уже знакомое. Сейчас оно даже приятно, хочется переживать его снова и снова. Вот теперь ребенка можно вынуть из воды совсем.
Положим малыша на подогретую пеленку, завернем, оставив голову и руки свободными, положим на бок. Новое состояние — неподвижность. От страха, новизны ребенок начинает плакать. Покачаем его… Он успокаивается. Глаза широко раскрыты. Руки и ноги продолжают двигаться. Маска страха исчезла совсем. Успокоенный, малыш полон совершенства, гармонии. Лицо его лучится. Не это ли совершенство привлекало в ребенке художников Возрождения и древних мудрецов?
Оставим младенца матери. Теперь эти двое — одно. Теперь мы твердо стоим на земле. Одиссея рождения кончилась.
Так описал новый способ рождения Фредерик Лабуайе. И не только описал, но и проверил его экспериментально. Мы смотрим на снимок ребенка в самом конце его книги. Малыш улыбается широко, безмятежно. Сколько ему? Два месяца, шесть? Нет. Ему нет еще и суток.
Итак, кто же он, новорожденный? Личность или сложный, живой, но все-таки «кусочек мяса»?
Как посмотреть. Ответ не в ребенке, ответ в нас самих. И многое, ох как многое для ребенка значит этот ответ!
Миллионы лет плач младенца был свидетельством появления на свет нового человека. Миллионы лет мир встречал малыша негостеприимно. И вот появились дети, которые с первых секунд чувствуют всю прелесть существования. Как это отразится на формировании их личности, судить пока трудно; покажет будущее. Жаль только, что и они не смогут ответить на вопрос, начинающий эту главу.
Не хлебом единым

В прошлом столетии человечество еще как-то ухитрялось без особых забот устраивать подкидышей, сирот и других детей, которым не повезло с родителями, в семьи. В начале нашего века в США, а затем и в странах Европы появились дома ребенка современного типа.
Конечно, для малышей и это было благом: одеты, обуты, накормлены. Раньше о таком не приходилось и мечтать. Вскоре, однако, ученых обеспокоила печальная статистика: большинство детей, поступавших в дома ребенка, не достигнув года, погибали.
Происходило это по непонятным причинам. Малыш — веселый, здоровый — вдруг переставал улыбаться няне, терял аппетит, худел, часто плакал. Любимым занятием ребенка становилась манипуляция с гениталиями или сосание пальца; взгляд его был постоянно устремлен в одну точку, движения делались все замедленнее, жизнь постепенно гасла. В чем дело? Стали лучше кормить — не помогло.
Наконец решили: инфекция! Ну конечно, как это раньше не догадались! Правда, поймать таинственный микроб так никому и не удалось. Но зато комнаты, в которых находились дети, разделили на маленькие клеточки: клеточка — ребенок. Полная изоляция от себе подобных. Но что это? Количество заболеваний резко увеличилось. Выходит, детей изолировали напрасно.
Лишь тогда многие стали догадываться. Обратили внимание на то, что симптомы болезни уж очень напоминают обыкновенную тоску и печаль, которые испытывает человек, потерявший близких. Так вот в чем дело! Ребенка рассматривали как организм, как биологическую игрушку, а он, оказывается, человек, который страдает, которому мало быть сытым, одетым, ухоженным. Пытались все объяснить инфекцией и отсутствием витаминов, а дело-то, видно, в психологии.
Проблему помогла решить… няня одного из детских домов Германии, которая ухитрялась быстро вылечивать самых безнадежных. Делала она это очень просто: привязывала ребенка к себе на спину и буквально ни на минуту не расставалась с ним. Работает ли, обедает, спит — малыш всегда рядом. Постепенно больной оживал и зловещие симптомы исчезали.
Итак, стало ясно: ребенку недостаточно просто есть, пить, спать, находиться в тепле, т. е. удовлетворять свои органические потребности. Ему необходимо и общение со взрослым человеком, человеческое тепло.
Так в психологии появилось новое понятие: потребность в общении. Смотреть на взрослого, видеть его улыбку, слышать его голос, ощущать его — вот те лекарства, в которых нуждался больной ребенок. Конечно, первые дома ребенка с небольшим количеством персонала не могли удовлетворить эту потребность малышей.
Болезнь, возникавшую при дефиците общения, назвали госпитализмом. Общение стали исследовать. Выяснили, что оно приносит ребенку массу положительных, радостных переживаний. Наоборот, лишенный общения малыш впадает в тоску, личность его травмируется. И не только личность. Замедляется и искажается все психическое развитие.
Французский психолог Рене Спиц изучал детей в домах ребенка и в хороших ясельных учреждениях с большим количеством персонала. Дети из домов ребенка сильно отставали в психическом развитии. К 2 г. многие из них умерли от госпитализма. Большинство же из уцелевших в 4-летнем возрасте не умели ходить, одеваться, есть ложкой, самостоятельно справлять нужду, говорить, отставали в росте и весе. Ясельные дети развивались нормально.
Оказалось, что самый опасный и уязвимый возраст — от 6 до 12 мес. В это время ребенка ни в коем случае нельзя лишать общения с матерью. А если уж иначе нельзя, надо заменить мать другим человеком.
Хуже всего то, что ребенка, заболевшего тяжелой формой госпитализма, нельзя вылечить до конца. Рана, нанесенная личности, заживает, но оставляет след на всю жизнь. Американский психолог Берес исследовал личность 38 взрослых людей, которые в детстве болели госпитализмом. Только семеро из них смогли хорошо приспособиться к жизни и были обычными нормальными людьми; остальные обладали разными психическими дефектами.
«Да, но все это — голые факты,— могут возразить мне.— А что же все-таки дает ребенку «для души» общение с близким взрослым, что чувствует при этом малыш?»
Наблюдая за развитием детей первого года жизни, советские психологи Н. Л. Фигурин и М. П. Денисова обнаружили, что примерно на шестой недели жизни ребенка его поведение при виде взрослого человека резко меняется. Если раньше взгляд малыша лишь ненадолго останавливался на взрослом человеке и быстро «убегал» в сторону, то теперь происходит нечто совсем иное: ребенок долго и внимательно смотрит в глаза взрослому, на лице его появляется улыбка… вот он быстро перебирает ручками и ножками и начинает гулить (периодически издавать звуки, напоминающие «гу, гу»). Создается впечатление, что поведение ребенка осмысленно, он весь тянется к взрослому и как бы говорит ему: «Не уходи, побудь со мной подольше». Ученые назвали эту удивительную реакцию младенца «комплексом оживления».
Дальнейшие наблюдения и работы советских исследователей (Д. Б. Эльконина, М. И. Лисиной и др.) показали, что комплекс оживления есть не что иное, как выражение потребности ребенка в общении со взрослым, активная попытка малыша привлекать и удерживать взрослого человека, общаться с ним.
Давайте на минуту оставим детей и обратимся к опытам с детенышами обезьян. Американский ученый Харлоу изолировал маленьких обезьян от матери и предлагал вместо нее два суррогата или чучела взрослой обезьяны. Одно было сделано из проволоки, второе — точно такое же — было покрыто мягкой шерстью. Оказалось, что все свое время детеныши проводили на мягкой «маме»; когда же к проволочному чучелу прикрепляли соску с молоком, обезьянки прыгали на него только затем, чтобы поесть; насытившись, они немедленно возвращались назад.
В другом опыте детеныша помещали в незнакомую комнату.
В этих условиях он пугался: съеживался в комочек и замирал в углу; не спасало и присутствие «проволочной мамы». Однако стоило внести «мягкую мать», как страх немедленно исчезал. Малыш тотчас хватался за шерсть «матери» и, не теряя ни секунды, начинал тремя лапками исследовать окружающее пространство; четвертой же для верности прочно держался за «маму».
В советской психологии интересные опыты, но уже с детьми, провела С. Ю. Мещерякова. Она помещала годовалых детей в незнакомую комнату. Хотя в комнате имелись новые, привлекательные предметы, некоторым малышам было не до них; они пугались, плакали, искали маму. Испуг был еще сильнее, если в комнату входил экспериментатор в маске. Стоило, однако, войти матери и взять малыша на руки, как страх исчезал, ребенок успокаивался и немедленно приступал к исследованию.
Итак, общение с близким взрослым не только дает ребенку новые впечатления. Присутствие взрослого лишает малыша страха перед загадочным, неизведанным миром. Окружите ребенка самыми интересными игрушками, дайте ему все сладости на свете, но оставьте одного… что-то не так, чего-то не хватает. Войдите в комнату — и глаза ребенка оживятся; он как бы говорит вам: «Ох и долго же тебя не было. Без тебя тут, знаешь, страшновато… Наконец-то я могу спокойно приступить к исследованиям».
В 1956 г. французская исследовательница Марсель Жебер изучала в Уганде развитие движений у африканских детей. К своему удивлению она обнаружила, что маленькие африканцы из бедных семей обгоняют европейских детей в физическом и психическом развитии. Чем младше ребенок, тем разрыв в показателях больше.
Оказалось, что африканская мать воспитывает малыша по-иному, чем француженка или американка. С первых дней жизни ребенок сидит на спине у матери, прочно привязанный куском материи. Где бы ни была мать, с кем бы ни говорила, ребенок всюду с нею. Конечно, в разговор он еще не вступает, но наблюдает с интересом. Главное же — грудь матери, источник жизни, вот она, рядом, только протяни руку. Ребенок знает, что он никогда не встретит отказа. Спать он ложится тоже с мамой, в одной кровати.
Другое дело — маленький европеец. Мама его хоть и любит, но не очень-то балует. Лежит он в кроватке, смотрит в потолок. Хорошо еще, если кто-то из знакомых заинтересуется малышом, «сделает козу». Питание строго по расписанию: поел — жди следующего раза. Опять же проблема фигуры; кому из молодых мам не хочется сохранить стройность и красивый бюст? А поэтому не лучше ли поскорее перевести ребенка на искусственное кормление?
Итак, общение с близким взрослым, новые впечатления, чувство безопасности — все это маленький африканец получает в избытке, европейскому же малышу этого чуть-чуть не хватает. Вот он и отстает в развитии. Но самое любопытное то, что к 2 г. развитие африканского ребенка резко замедляется; европейские сверстники догоняют, а затем и перегоняют его. В чем дело?
Оказывается, к этому времени и у африканской матери кончается терпение: кормить грудью она больше не хочет. Ребенок, правда, продолжает требовать, но, попробовав грудь, обмазанную горьким соком алоэ, отступает. После отлучения от груди африканский малыш теряет все свои преимущества: мать больше не носит его на спине, не спит с ним, не кормит грудью. Конечно, он тяжело переживает все это, становится грустным, малоактивным. В то же время европейский ребенок быстро развивается; он-то давно привык не требовать от мамы слишком многого.
Вывод очевиден: чем больше мы общаемся с ребенком, тем интенсивнее идет его физическое и психическое развитие. Но если уж дали, не отнимайте, иначе он переживает это как тяжелую психическую травму. И тут француженка и африканка могут поучиться друг у друга. Правда, во Франции, а тем более в северных странах вряд ли возможно носить малыша на спине, да и физически это тяжело. А вот кормить из бутылочки, если есть свое молоко, не стоит; теперь мы знаем, что ребенку важно не только принимать пищу, но и общаться в это время с матерью, ощущать ее близость. Зато и африканской матери не следует так резко прерывать кормление грудью; лучше уж сразу давать общение в умеренных дозах.
Мир глазами других
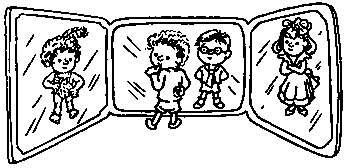
В начале книги мы попытались понять переживания новорожденного, заглянуть в душевный мир маленького человека. Это не просто. Ведь по-настоящему-то мы знаем только наш собственный, личный душевный мир; что же касается других существ, то тут нам приходится только догадываться. И все-таки, что бы ни говорили ревнители «строгой науки», потребность понять другое существо, увидеть мир его глазами извечно свойственна человеку.
В повести «Детство Никиты» Алексей Николаевич Толстой попробовал взглянуть на мир даже глазами… маленького скворчонка. Птенец сидел на подоконнике в марлевой клетке и вдруг…
«…увидел ужасное животное: оно шло, кралось на мягких коротких лапах, животом ползло по полу. Голова у него была круглая, с редкими усами дыбом, а зеленые глаза, узкие зрачки горели дьявольской злобой. Желтухин даже присел, не шевелился.
Кот Василий Васильевич мягко подпрыгнул, впился длинными когтями в край подоконника — глядел сквозь марлю на Желтухина и раскрыл рот… Господи… во рту, длиннее Желтухиного клюва, торчали клыки… Кот ударил короткой лапой, рванул марлю… У Желтухина нырнуло сердце, отвисли крылья… Но в это время — совсем вовремя — появился Никита, схватил кота за отставшую кожу и швырнул к двери. «Сильнее Никиты нет зверя»,— думал после этого случая Желтухин».
Вот так превращение! Страшное всемогущее животное, повергшее в трепет маленького Желтухина, для Никиты оказалось всего-навсего обыкновенным котом, которого можно прогнать одним взмахом руки. Но разве это удивительно? Гораздо удивительнее то, что и среди людей нет двух человек, которые бы видели одно и то же одинаково.
Вы были когда-нибудь в суде? Если нет, давайте на минуту присоединимся к героям романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Посмотрите, как по-разному оценивают душевное состояние и поступки подсудимого Дмитрия Карамазова три видных медицинских светила.
Один видит доказательство ненормальности подсудимого в том, что, войдя в залу суда, он не смотрел на дам (до которых «большой любитель»); другой — в том, что он не смотрел на защитника, от которого «зависит… вся его участь».
«Но особенный комизм разногласию обоих ученых экспертов придал неожиданный вывод врача Варвинского, спрошенного после всех. На его взгляд, подсудимый, как теперь, так и прежде, находится в совершенно нормальном состоянии. Что же до того, налево или направо должен был смотреть подсудимый, входя в залу суда, то, «по его скромному мнению», подсудимый именно должен был, входя в залу, смотреть прямо перед собой, как и смотрел в самом деле, ибо прямо перед ним сидели председатель и члены суда, от которых зависит теперь вся его участь, «так что, смотря прямо перед собой, он именно тем и доказал совершенно нормальное состояние своего ума в данную минуту…».
А послушайте свидетелей! Кажется невероятным, что можно так по-разному увидеть одно и то же. Но больше всего вы удивитесь, если сопоставите речи прокурора и адвоката. Вот уж поистине белое становится черным, а черное — белым. Один, ссылаясь на улики и факты, доказывает, что было совершено убийство и ограбление; другой, ссылаясь на те же факты и улики, доказывает прямо противоположное.
Да, трудно человеку быть беспристрастным. Да и возможно ли?
Илья Эренбург в книге «Люди, годы, жизнь» писал:
«Все знают, насколько разноречивы рассуждения очевидцев о том или ином событии. В конечном счете, как бы ни были добросовестны свидетели, в большинстве случаев судьи должны положиться на свою собственную прозорливость. Мемуаристы, утверждая, что они беспристрастно описывают эпоху, почти всегда описывают самих себя. Если бы мы поверили в образ Стендаля, созданный его ближайшим другом Мериме, мы никогда бы не поняли, как мог светский человек, остроумный и эгоцентричный, описать большие человеческие страсти,— к счастью, Стендаль оставил дневники. Политическая буря, разразившаяся в Париже 15 мая 1848 года, описана Гюго, Герценом и Тургеневым; когда я читаю их записи, мне кажется, что речь идет о различных событиях».
«Но есть же у людей что-то общее, какое-то взаимопонимание, объективность? — спросит читатель.— Иначе как бы они могли вместе работать, создавать что-то сообща?»
Вопрос резонный. Конечно есть. Но, для того чтобы мы поняли какого-то человека, нам надо «раздвоиться», стать не только самим собой, но и немножко им; надо уметь видеть мир глазами других. А такое искусство, увы, не рождается вместе с человеком.
Еще в 30-х гг. нашего века ныне знаменитый, а тогда очень молодой швейцарский психолог Жан Пиаже провел с детьми интересный и удивительно простой эксперимент. Он спрашивал ребенка, сколько у него братьев или сестер. Ответы детей оказались столь любопытны, что легли в основу целой концепции. Но давайте послушаем детей.
Вот экспериментатор беседует с Раулем (4 г.), у которого есть брат Жеральд:
— Рауль, есть у тебя братья?
— Жеральд.
— А у Жеральда есть братья?
— Нет. Только у меня есть брат.
— Послушай, у Жеральда нет брата?
— Нет, у него нет брата.
Видите? Ребенок прекрасно знает, что у него есть брат, но не понимает, что сам является братом своего брата. Почему? А просто потому, что ведь для этого надо «раздвоиться», мысленно стать на точку зрения другого человека (брата), а на это-то как раз он и не способен.
А вот другой опыт Пиаже. Представьте большой квадратный стол, а на нем — макет горной местности из папье-маше. Сфотографируем макет с четырех сторон. Конечно, фотографии получатся разные: с одной стороны видна одна гора, с другой — другая… А теперь поместим 5-летнего ребенка перед макетом, дадим ему фотографии, а с другого конца стола усадим сверстника. Попросим нашего испытуемого выбрать из четырех снимков тот, который сделан со стороны сверстника.
Так мы и думали! С какого бы конца мы ни посадили сверстника, малыш всегда выбирает одну и ту же фотографию — ту, которая сделана с его стороны.
Похоже на опыт с братьями? Малыш не может стать на точку зрения другого человека. Ему кажется, что все люди, где бы они ни сидели, видят макет так же, как он.
Пиаже назвал это свойство детского мышления эгоцентризмом (сосредоточенностью на себе). И, конечно, такой маленький эгоцентрик был бы ненадежным свидетелем в суде. А уж если бы он взялся писать мемуары…
«Ну хорошо,— опять слышу я голос читателя,— а если бы он мог «раздвоиться», стать на точку зрения другого, разве он сразу бы стал надежным свидетелем? Ведь и мы, взрослые, далеко не всегда беспристрастно смотрим на вещи».
Что верно, то верно. Достаточно вспомнить сцену суда, описанную Достоевским. В том-то и дело, что мочь быть объективным и хотеть этого — разные вещи. Каждый взрослый нормальный человек может, но не всегда хочет проявлять беспристрастность, видеть глазами других. Но все же он хочет быть беспристрастным чаще, чем не хочет, и это — великое достижение человечества.
А ребенок? Как у него формируется желание, потребность быть объективным? Потребность видеть мир глазами других?
Поставим эксперимент. Попросим малыша сравнивать рисунки и пластилиновые фигурки различных животных (медведя, лошади, петушка, собачки и др.), но каждый рисунок и каждую фигурку выполним в трех вариантах. Одни рисунки и фигурки будут точно воспроизводить образ животного, со всеми деталями и подробностями, другие будут более грубыми, схематичными, нераскрашенными, а третьи вообще будут напоминать наших животных весьма приблизительно.
Сначала предложим ребенку сравнить рисунки медведей («Какой самый лучший? Какой похуже? Какой самый плохой?»), потом лошадей — и так по всему «зоопарку». Сразу увидим, что от самых маленьких (2 г.) нам толку не добиться: то одну фигурку назовут лучшей, то другую, то опять первую и т. д. Нет, такие дети для наших опытов не подходят. Зато дети старше 3 лет сравнивают фигурки и рисунки не хуже взрослых, и не только сравнивают, но и аргументируют свое мнение («Эта собачка лучше, потому что у нее есть глаза, уши и хвост, она раскрашенная» и т. п.).
А теперь приступим к главному: попросим двоих детей соревноваться в лепке и рисовании тех же животных («Кто лучше вылепит лошадку, нарисует петушка?»). Усадим их за столик на таком расстоянии, чтобы они могли видеть, но не могли слышать друг друга, дадим бумагу, карандаши, пластилин…
Вот работа началась… Дети очень стараются, каждому хочется выиграть… Готово? Теперь возьмем рисунок одного из детей и понесем другому для сравнения; по дороге, однако, незаметно подменим его тем рисунком, который сделали сами и который в предшествующем опыте ребенок признал лучшим. Смотрите, как озадачен малыш. «Неужели он так хорошо нарисовал? Неужели я хуже рисую?» — вероятно, думает он.
Вот тут-то и станет ясно, есть ли у ребенка желание быть объективным; если есть, ему придется признать рисунок «соперника» лучшим, если нет, он будет рассуждать по принципу «все, что мое,— лучше». Мы ведь знаем, что он может правильно сравнить эти рисунки, и если не делает этого, значит, не хочет и предпочитает принимать желаемое за действительное.
А теперь давайте послушаем, что говорят дети.
Вот 3-летний Дима соревнуется со своей сверстницей Наташей.
Экспериментатор показывает ему рисунок медведя, якобы сделанный девочкой:
— Кто лучше нарисовал мишку?
— Мой мишка лучше, а Наташин хуже.
— Почему?
— Потому что мой в лифте сидит (и заключает своего мишку в квадрат).
— Но ведь я не просил лифт рисовать.
— Ну.., потому что у моего шерсть есть.
— А лошадку кто лучше нарисовал?
— Моя лучше.
— Почему?
— Потому что у моей глаза, уши, рот.
— А у Наташиной разве их нет?
— И у этой есть (разочарованно)… А зато у моей хвост есть и спина.
— А у Наташиной?
— Тоже есть (с огорчением).
— Так почему же твоя лучше?
— Потому что эта (Наташина) слишком круглая (у самого лошадка состоит из двух квадратов, соединенных палочкой).
Видно, что хотя малыш и умеет выделять объективные качества предметов (в первом опыте он делал это очень хорошо), но просто не хочет этого делать; слишком велико желание выиграть. В оправдание же своего мнения Дима свободно жонглирует фактами, находя в своих «творениях» такие достоинства, какие и в голову бы не пришли объективному наблюдателю («мишка в лифте»). Так же поступает и Наташа. Девочка оправдывает превосходство своей собачки тем, что «…она полотенца несет» (в конце лепки Наташа прилепила два оставшихся кусочка пластилина на спину собаке, назвав их полотенцами). После замечания экспериментатора, что этот признак не следует принимать во внимание, ребенок продолжает считать свою собачку лучше, потому что она «мягенькая», а эта (соперника) «твердая».
Оказалось, что большинство 3-летних детей хотя и могут, но не желают судить непредвзято о своих и чужих рисунках. «Что мое, то и лучше» — так рассуждают малыши, не считаясь ни с какими объективными обстоятельствами. А это и означает, что они принимают желаемое за действительное, способны, но не хотят видеть мир глазами других. Иначе говоря, у ребенка еще отсутствует потребность быть беспристрастным, поступаться личными интересами под давлением реальности. Зато в 4-летнем возрасте большинство детей сравнивают предметы объективно. «Конечно, мне очень хочется выиграть, но против фактов не пойдешь»,— как бы рассуждают они.
Интересно, почему же у малышей отсутствует желание быть объективными? Может быть, они пристрастны только по отношению к сверстникам, а по отношению к взрослым объективны? Ведь и мы, взрослые, даем волю своим эмоциям чаще всего в кругу «равных по званию», но сдерживаем себя, оказавшись среди людей «более высокого статуса»?
А что, если устроить «соревнование» детей со взрослым человеком? Неужели и тут они будут постоянно «выигрывать»? В качестве взрослого пригласим авторитетного для ребенка человека (воспитателя), а вместо самых лучших рисунков и фигурок будем предъявлять малышам предметы среднего качества, якобы сделанные взрослым.
Итак, если авторитет взрослого не играет роли, то число суждений «Я лучше» должно увеличиться. Если же малыш с благоговением относится к авторитету, у него отпадает желание выиграть во что бы то ни стало и объективных суждений появится больше.
И в самом деле, многие дети перешли от пристрастных оценок к объективным. Так, Лена (4 г.) в соревновании со сверстником все свои предметы признавала лучшими. Теперь девочка соревнуется со взрослым. Экспериментатор просит ее сравнить рисунки:
— Кто лучше нарисовал лошадку?
— Инна Михайловна лучше, а я хуже. У меня такая просто не получится.
— А петушка кто лучше вылепил?
— Тоже она.
Другой 4-летний ребенок в ответ на просьбу экспериментатора посоревноваться со взрослым в лепке отвечает: «Надежда Иосифовна старше, конечно, она за жизнь научилась хорошо лепить петушка, конечно, она слепит лучше».
Да, видно, теперь наши дети попали как раз в такие условия, когда они не очень-то дают волю своим желаниям. Но значит ли это, что у малышей появилось стремление быть объективными? Вряд ли. Скорее потребность выиграть во что бы то ни стало подавлена уважением к авторитету взрослого. От такой «объективности» недалеко и до «пристрастности наоборот», до самоуничижения. Наверное, даже если бы некоторым детям удалось нарисовать лучше взрослого, они все равно добровольно уступили бы первенство. Ясно одно: таким путем потребности видеть мир глазами других не воспитаешь; надо искать какой-то иной способ.
Но сначала испытаем память малышей, у которых эта потребность уже появилась: в соревновании со сверстником они дали объективные суждения. А что, если через недельку-другую мы им предложим рассказать, как это происходило, кто вылепил лучше, кто хуже? Может быть, желание выиграть соревнование, хотя оно и вынуждено было отступить под давлением фактов, втайне продолжает свою работу? Может, оно пытается взять реванш, изменив картину событий в памяти ребенка? Разве не случается иногда, что мы забываем неприятные для нас события, и наоборот, вспоминаем то, чего на самом деле не было, но чего мы в свое время страстно желали?
«Память сохраняет одно, опускает другое,— пишет И. Эренбург.— Я помню в деталях некоторые картины моего детства, отрочества, отнюдь не самые существенные; помню одних людей и начисто забыл других. Память похожа на фары машины, которые освещают ночью то дерево, то сторожку, то человека. Люди (особенно писатели), рассказывающие стройно и подробно свою жизнь, обычно заполняют пробелы догадками: трудно отличить, где кончаются подлинные воспоминания, где начинается роман».
Возможно, и вправду через некоторое время малышам, признавшим свое поражение, покажется, что они выиграли соревнование?
Так и есть! Многие дети изменили свое мнение.
Да, недолговечна объективность наших маленьких испытуемых. Наверное, желание видеть мир глазами других еще непрочно, кратковременно и быстро исчезает, зато желание выиграть остается полным хозяином положения. Но все же после предъявления фигурок такой ребенок испытывает некоторое неудобство: извращать факты на словах легко, а вот когда тебе предъявляют материальные улики твоих прегрешений — тут уже труднее.
А не лучше ли вообще присвоить себе рисунки и фигурки сверстника, а в отношении своих собственных авторство уступить партнеру? Если уж подтасовывать факты в свою пользу, то надо идти до конца.
Так и поступили некоторые из малышей. Например, 3-летняя Света в ходе эксперимента признавала свои рисунки и фигурки лучшими, но все же соблюдала авторские права; когда же ее попросили припомнить ситуацию опыта, она присвоила себе лучшие предметы, а сопернику «уступила» свои. Ну как тут не вспомнить некоторых юных поэтов, сочиняющих стихи вроде «Я вас любил, любовь еще быть может…». И ведь уверен человек, что это не чужое, а его собственное, пока еще раз не раскроет томик Пушкина.
«Неужели же дети сознательно идут на присвоение чужого предмета?» — спросит читатель. Едва ли. Маловероятно, что 3-летний ребенок способен на сложное рассуждение вроде: «Мне хочется, чтобы мой рисунок был лучше, хотя на самом деле он хуже. Воспользуюсь-ка я тем, что дело было давно, доказательств ни у кого нет, да и присвою себе рисунок покрасивее». Скорее всего, малыш искренне полагает, что автором красивого рисунка является он сам.
Кстати, «самореабилитацию» и «присвоение» обнаружили в основном маленькие дети: у старших подобные вещи встречаются значительно реже. У 4-летних детей мы почти всегда найдем умение и желание видеть реальность глазами других. Не свидетельствует ли данное обстоятельство о том, что в этом возрасте появляются какие-то формы общения, в которых без объективности никак не обойтись? А в более младшем возрасте такие формы отсутствуют, значит, нет и нужды в какой бы то ни было беспристрастности?
Представьте на минуту, что вы писатель и делаете для себя пометки в блокноте. Вы знаете, что эти пометки никто, кроме вас, читать не будет, поэтому пишете сокращенно, а иногда вообще вместо слов ставите одному вам понятные знаки и закорючки. Но вот вы решаете вместе с другом, тоже писателем, подготовить сценарий для кинофильма. Теперь (если у вас нет пишущей машинки) вы будете писать аккуратно, выводить каждую букву и слово: иначе соавтор вас не поймет, совместного труда не получится. Иными словами, только участие в совместном труде делает для человека необходимым учитывать точку зрения других людей, видеть их глазами.
А много ли случаев, когда 2—3-летний малыш кооперируется с другими, работает в «соавторстве»? Да почти не бывает. Посмотрите, например, как ведут себя малыши в детском саду. Рядом товарищи, кругом масса игрушек. Ну почему не заняться какой-нибудь интересной коллективной игрой, вроде игры в магазин, в поезд, в больницу. Нет, дети играют в одиночку: вот один взял кубики и складывает их, второй возится с автомобилем, третий кормит куклу… Малыши играют рядом, но не вместе. А попробуйте-ка сами вовлечь их в такую игру, где надо строго соблюдать правила, подчинять свои желания общему делу — вряд ли это у вас получится. В лучшем случае дети будут подражать отдельным персонажам вашей игры, но совместной деятельности не выйдет.
Почему? Да потому, что у малышей еще не сформировались какие-то важные предпосылки, умения, например умение подчинять свои действия определенному правилу. Детей трудно научить совместной деятельности потому же, почему их трудно научить грамматике или арифметике.
Но вот наконец необходимые предпосылки сформированы. Теперь малышей можно учить совместной деятельности: игре, труду и пр. А как только научим, у детей сразу появится и вкус к ней.
«Вот тут-то вы и ошибаетесь,— вмешивается критик.— Ведь для того чтобы ребенок занялся коллективной деятельностью, у него уже должна быть потребность в этом».
Так ли? Еще в начале века люди спокойно обходились без телевизора, а попробуйте теперь лишить их «волшебного ящика»? Потребность не возникает из ничего, ее порождает предмет.
Итак, у детей появилась потребность в совместной деятельности. Но ведь мы уже знаем: нельзя действовать сообща, не умея считаться с товарищами, смотреть на мир глазами других. Значит, одна потребность влечет за собой следующую: хочешь участвовать в общей игре, изволь подчиняться правилам, будь объективным, не давай волю своим эмоциям.
Так вот в чем дело! Значит, желание быть объективным, видеть мир глазами других появляется тогда, когда без него не обойтись в общении, когда оно является условием общения. А что если мы промоделируем нашу гипотезу в эксперименте?
Возьмем какую-то «готовую» потребность ребенка и удовлетворим ее; но пусть малыш за это «заплатит» тем, что будет оценивать факты объективно. Конечно, сначала он будет делать это неохотно, но нам-то известно: «аппетит приходит во время еды», предмет порождает потребность. Вдруг ребенок втянется и потом уже не сможет не смотреть на вещи со стороны?
Попросим детей, которые в ходе соревнования со сверстниками признавали все свои предметы лучшими, шли против фактов, нарисовать и вылепить каких-либо животных, а затем предъявим им для сравнения наши собственные предметы, якобы сделанные их сверстниками. Конечно, большинство детей и тут будут утверждать, что их рисунки (фигурки) лучше. Теперь, однако, мы не будем с ними соглашаться и потребуем обосновать оценку.
Вот тут-то малышу хочешь не хочешь, а придется признать свою ошибку: ведь в споре со взрослым доводы типа «мишка в лифте» или «а у моей уши есть» явно не пройдут. Пусть ребенок сравнивает все новые и новые предметы, а мы будем контролировать и спорить с ним до тех пор, пока он сам не станет судить объективно и правильно аргументировать собственную точку зрения. А это и будет означать, что он перестал принимать желаемое за действительное, научился беспристрастности.
А теперь можно проверить, появилась ли у малыша потребность судить объективно, превратилась ли необходимость аргументировать свою точку зрения в споре со взрослым в потребность, желание быть объективным даже тогда, когда никто с тобой не спорит и можно безнаказанно извращать факты.
Поставим ребенка вновь в ситуацию соревнования со сверстником, изменив лишь состав нашего «зоопарка». Не будем спорить с малышом, просто попросим сравнить, кто сделал лучше: он или сверстник.
Похоже, что наша гипотеза недалека от истины: большинство детей в ходе предшествующего эксперимента перешли от пристрастных оценок к объективным.
«Но при чем же тут личность, мотивы, потребности? — снова подает голос критик.— Ведь вы просто научили ребенка сравнивать предметы, выделять признаки, вот и все».
В том-то и дело, что сравнивать и аргументировать дети умели и раньше. Вспомним, с чего мы начали наши опыты. С выяснения, могут ли дети сравнивать предметы по качеству в нейтральной ситуации, когда у них нет личной заинтересованности в победе. Оказалось, могут. А вот в процессе соревнования, желая выиграть, они оценивают те же самые предметы наоборот. Значит, умеют, но не хотят.
Итак, именно в условиях сотрудничества, требующих от ребенка аргументации своих действий, и появляется у него новая потребность — быть объективным. Потребность, благодаря которой картина мира предстает перед ним в ином свете, поворачивается другой, неожиданной гранью. А разве это не один из главных «камней» в фундаменте человеческой личности — видеть мир, людей, себя самого со стороны, умение видеть глазами других?
У истоков морали
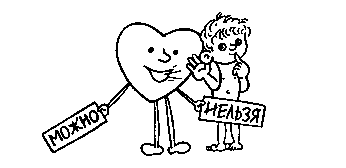
Предположим, вы запретили ребенку трогать вещи на письменном столе. В ваше отсутствие он влез на стул, стал играть с предметами на столе, порвал бумагу, опрокинул вазочку с цветами. Как вы поступите? Сочтете ли малыша виноватым? Накажете ли его?
Такие вопросы мы задавали родителям в одном московском детском саду. Оказывается, ответ зависит от возраста ребенка. «Нет, не виноват. Малыш, что с него возьмешь. Не понимает ведь» — так отвечали большинство родителей, у которых дети не старше 2 лет. Другой ответ дали родители детей в возрасте от 3 до 7 лет. Тут сомнений не было: виновен и, следовательно, заслуживает наказания.
В чем тут дело? Почему один и тот же проступок мы прощаем малышу и не прощаем старшему?
Проведем простой эксперимент. Покажем ребенку коробку с новой игрушкой внутри, а потом попросим его отвернуться и не смотреть, как мы будем ее раскрывать. Теперь раскрываем. Видите? Малыш отвернулся, слышит шум, с которым поднимается крышка, наши восторженные возгласы… и оборачивается! Соблазн победил.
Конечно, так поступят не все дети. Те, что постарше (4—6 лет), смогут удержаться. Это значит, что они умеют контролировать свое поведение, подчинять сиюминутные желания данному слову. Психологи называют такое поведение произвольным.
Теперь ясно: способен ребенок подчинять свои желания данному слову — пусть отвечает за проступок. Не способен — и спросу нет.
«А как же мы узнаем,— спросит читатель,— сформировалось у ребенка произвольное поведение или нет?» В самом деле, как? В любой больнице нам помогут точно установить степень физической зрелости ребенка, состояние его здоровья. А клиник, где бы установили степень психологической зрелости, в том числе и произвольного поведения, пока еще нет. Вот и приходится каждому из родителей самому, «на глазок», определять, способен ли малыш сдерживать свои желания, можно или нельзя его наказывать. Хорошо еще, что консультантом природа поставила тут чуткое родительское сердце.
Представьте себе, что произошло удивительное событие: 2-летние дети вдруг превратились в гигантов. Каково было бы лилипутам-взрослым среди таких гулливеров-детей? Наверное, никому бы не поздоровилось: ведь гнев малыша, обладающего огромной физической силой, напоминал бы буйство слона, а игра могла бы причинить бедствия и разрушения.
Можем ли мы, однако, считать, что поведение этих детей было бы аморальным? Думать подобным образом — значит отождествлять моральное поведение с произвольным, а неморальное — с непроизвольным. Ошибочность такого понимания лежит на поверхности: не обвиняем же мы животное за то, что оно нас не послушалось; моральная и правовая оценки неприменимы также к душевнобольным, не способным контролировать свое поведение. Иначе говоря, непроизвольное поведение лежит вообще вне границ применимости моральных оценок.
Допустим, однако, что ребенок перешел рубеж моральной ответственности, научился подчинять свои желания требованиям взрослых. «Наконец-то,— вздыхаем мы с облегчением.— Теперь не надо все время следить за ним: не разбил бы, не пролил, не убежал…»
«Но позвольте,— скажет читатель,— это значит лишь то, что он может подчиняться нашему требованию… если захочет. А если не захочет?»
И верно: а если не захочет? Вот мы и подошли к самой главной проблеме морального развития ребенка: как сделать, чтобы ребенок не только мог, но и хотел подчиняться нашим требованиям? Иными словами, как воспитать у него потребность вести себя морально?
«А нужно ли, чтобы он обязательно хотел? — спросит кто-нибудь из читателей.— Главное — не оставлять каждый хороший поступок без награды, а каждый плохой — без наказания, вот и вся премудрость».
Американский психолог Маурер в молодости увлекался обучением говорящих птиц — попугаев. Делал он это очень просто: подходил к клетке с птицей, произносил фразу и давал лакомство (подкрепление). Оказалось: стоило несколько раз проделать такую процедуру, как птица сама, даже в отсутствие экспериментатора, начинала произносить нужную фразу. Маурер полагает, что попугаю было приятно произносить ее, так как у птицы при этом возникали воспоминания о вкусной еде. Приятные ощущения от еды как бы прилипали к произнесению данной фразы.
Точно так же, по Мауреру, происходит моральное развитие ребенка, только вместо экспериментатора тут выступают мать и отец, а вместо подкрепления — материнское молоко и удовольствие от общения с близким взрослым. Если же малыш делает что-то не так, его наказывают. К хорошему поведению «прилипает» удовольствие от награды, к плохому — боль от наказания; вот ребенок и старается вести себя хорошо.
Казалось бы — логично. Только вот беда: у животных наказание за то или иное поведение действительно как бы прилипает к этому поведению, а у ребенка — нет. Накажите его тысячу раз за одно и то же, но если в тысячу первый он будет уверен, что избежит наказания, то все равно совершит этот проступок. Дело просто в том, что ребенок, в отличие от животного, существо сознательное и может планировать свои действия. Так что одними наградами и наказаниями в области морального воспитания многого не достигнешь.
Конечно, можно воспитывать и подобным образом. Но не получится ли такое: если вы мягкосердечны, малыш станет требовать все больших наград, а если предпочитаете наказывать, притерпится к наказанию. Да и морален ли человек, который в обмен на доброту требует награды, а от дурных поступков воздерживается лишь под угрозой наказания?
Допустим, однако, что мы пошли по пути воспитания «без усложнений». Пока ребенок мал — он у нас на глазах, и с наказанием всегда можно успеть. Но чем он старше, тем дальше от родительского ока, от контроля взрослых. Дальше — больше, и вот бывший малыш, а теперь уже взрослый вступает в отношения дружбы и любви. Каким он будет там, в этих отношениях, тщательно скрытых от чужого глаза?
Итак, мы можем быть спокойны за ребенка лишь тогда, когда его нравственное поведение не зависит от контроля со стороны. А это, по-видимому, и значит, что он и может, и хочет, что у него должна быть потребность вести себя морально, выполнять требования родителей и общества не за страх, а за совесть.
«Ну что вы, разве маленький дошкольник на это способен?» — спросит читатель. А почему бы и нет? Слов нет, полеты в космос — великое достижение человечества. Но закономерное. Когда же я вижу, как 3-летний малыш, который еще два с небольшим года назад дрожал от возбуждения при виде лакомства, дарит родителям и незнакомым людям конфеты из своего новогоднего подарка, меня охватывает ощущение чуда.
Как-то один из психологов сказал мне, что, мол, безнадежное дело искать бескорыстие, альтруизм у маленьких детей. Не помню, что я ответил, но все более убеждаюсь, что детство именно тот период, где шансов найти бескорыстие больше всего. И кто знает, не теряем ли мы что-то с годами? Обычно думают: чем старше ребенок, тем он ближе к совершенству. Конечно, он становится сильнее, умнее… Но становится ли он бескорыстнее?
Однако вернемся к нашим размышлениям. Как же узнать, есть у ребенка моральная потребность или нет? На лице ведь у него не написано, почему он поступил хорошо: из моральной потребности или из выгоды? Например, из желания показать: «Вот какой я хороший».
Трудно разобраться в человеке, даже маленьком. А впрочем… Научились же у живого человека рассматривать легкие, сердце, позвоночник. Почему бы и нам не придумать что-нибудь вроде «психологического рентгена»? Поставил ребенка под «аппарат» и видишь, есть у него моральная потребность, можно ему доверять, или его не следует пока оставлять без присмотра.
Представьте себе, что вы сидите в кругу друзей перед экраном телевизора. На экране — фильм; кипят страсти, вершатся судьбы. Одни поступки героев вам нравятся, другие не очень, третьи вызывают негодование. Ну как тут не поделиться с друзьями? Но вот фильм кончается, друзья разошлись, вы опять окунулись в реальную жизнь со всеми ее заботами, трудностями. Понаблюдайте за своим поведением. Вам не кажется, что иногда вы поступаете точно так же, как и герои фильма, хотя раньше, со стороны, вы, быть может, не одобряли такое поведение?
Если вам это удалось, вы стали свидетелем интересного психологического явления: несоответствия между реальным поведением человека и его рассуждениями о поведении других людей. Ведь когда мы судим о других, мы делаем это в беседе с кем-то и волей-неволей находимся под его контролем. Когда же мы от слов переходим к делу, нередко такой контроль отсутствует. Тут-то и выясняется, действительно ли у нас есть потребность вести себя так, как мы говорили нашему собеседнику.
«Позвольте,— скажет читатель,— зачем же мне было обманывать собеседника, говорить ему одно, а делать другое?» Да нет же, ваша искренность не ставится под сомнение. Конечно, вы были уверены, что именно так и поступите. Просто людям свойственно делать для себя маленькие исключения.
Уже известный нам швейцарский психолог Жан Пиаже изобрел интересный способ для изучения моральных суждений детей. Он рассказывал им истории, герои которых — тоже дети — совершали различные проступки, а затем устраивал обсуждение прослушанного. Так, в одной из историй маленький Жан нечаянно разбивает поднос с чашками. Другой малыш, Анри, который вопреки запрету взрослых полез в буфет за вареньем, тоже разбивает чашку. Кого надо сильнее наказать: Жана, разбившего десять чашек, или Анри, разбившего только одну?
«Конечно, Анри,— скажете вы.— Хотя он разбил и меньше чашек, но сделал это, нарушив запрет взрослого; а тот, другой, просто споткнулся, это со всяким может быть». Но не так рассуждают 5-летние. Они не сомневаются: больше виноват Жан, потому что он разбил больше чашек.
В другой истории мальчик разбивает стекло в лавке. Ребенку удалось убежать, но когда он переходил по мостику ручей, доска подломилась и он упал в воду. Почему случилось несчастье? Да мало ли причин: доска подгнила, гвозди проржавели… Но малыши думают иначе: несчастье случилось именно потому, что мальчик совершил проступок. Не разбей он стекло, доска бы не подломилась.
Да, любопытно рассуждают дети, совсем не так, как мы, взрослые… Но вот беда: рассуждать-то они рассуждают, а где у нас гарантия, что в реальной жизни они будут вести себя так, а не иначе? Мы ведь знаем, что на слова малышей (да и взрослых) можно полагаться не всегда. Вот если бы поставить ребенка в реальную ситуацию: пусть разобьет стекло, а мы подстроим так, что ему придется бежать по доске через ручей. Интересно, испугается ли? Если уж ребенок действительно верит в справедливость свыше, его на доску не заманишь; только вряд ли это произойдет. Скорее всего, побежит и не задумается.
«Ничего себе опыт,— скажет читатель.— Что же, так и разрешить ему за здорово живешь бить стекла? А уж если первый рассказ воплотить в реальность, то чашек не напасешься». И правда, зачем бить стекла? Можно придумать что-нибудь попроще. Главное, чтобы смысл остался тот же: сначала ребенок — судья и свидетель, а потом — участник таких же событий.
Постойте, постойте… А не поможет ли эта мысль сконструировать нужный нам «рентгеновский аппарат»?
Возьмите ведро, банку, три шарика от пинг-понга, вогнутую детскую лопатку. Завесьте вход в комнату плотной бумагой с маленькой дырочкой посередине. Вот и весь «аппарат». Теперь предложите малышу переложить шарики из ведра в банку. Видите, это не так-то просто: ручку лопатки надо держать вертикально, иначе ничего не получится. Но вот, наконец, ребенок освоил задание.
А теперь, за неимением телевизора, расскажем ему историю про мальчика, которого взрослый попросил переложить шарики такой же лопаткой, а за это обещал конфету.
«Он положил конфету на стол и ушел,— продолжаем мы свой рассказ.— Мальчик хотел переложить лопаткой, но у него не получалось. Тогда он переложил шарики рукой, хотя и знал, что это запрещено, съел конфету, а когда взрослый вернулся, сказал, что переложил лопаткой. Хорошо ли поступил мальчик? А как бы ты поступил на его месте?»
Выслушаем ответы ребенка, а затем, поговорив немного о постороннем, попросим его переложить шарики лопаткой (нужно только вогнутую лопатку незаметно подменить слегка выпуклой, чтобы шарик скатывался с нее). За выполнение пообещаем награду (марку или конфету), а сами под благовидным предлогом выйдем из комнаты и понаблюдаем за поведением ребенка втайне от него сквозь отверстие экрана.
Вот и заработал наш «психологический рентген». Если малыш выполнит условие (не трогать шарики руками) и будет перекладывать только лопаткой, ему придется отказаться от награды. Таким образом выяснится, что быть честным для него моральная потребность. Если же он в реальной жизни подчиняется правилам только из-за награды или наказания, то и здесь он, конечно, прекрасно обойдется и без лопатки: ведь следов-то не остается.
Давайте вместе с экспериментатором понаблюдаем через экран нашего прибора за поведением двух детей.
Экспериментатор, рассказав Ире (4 г.) историю про мальчика, спрашивает:
— Ира, хорошо Вова поступил или плохо?
— Плохо.
— Почему?
— Потому что неправду сказал. На самом деле ведь он руками, а сказал, что лопаткой переложил.
— А если бы ты была на его месте, стала бы ты руками перекладывать?
— Нет, я бы лопаткой старалась.
— А если бы у тебя лопаткой не получилось?
— То я бы научилась. Если бы один день не получилось, то второй день, если второй день не получилось, то третий день, и так пока не научусь.
Ира остается одна. Пытается достать шарики лопаткой, затем перекладывает их рукой. Некоторое время сидит опустив голову. Затем один за другим вынимает шарики из банки, снова кладет в банку, вновь вынимает и решительно возвращает в ведро. Входит экспериментатор:
— У меня никак не получается. Этой лопаткой трудно переложить. Видите, тут вогнутое и шарик скатывается.
— Значит, ты не смогла переложить?
— Я придерживала рукой, но ведь это не в счет. А если бы не придерживать, то я бы и в семь дней и в семь ночей не научилась.
Оказалось, что все дети от 3 до 7 лет на словах осуждают поступок героя истории. На деле же многие перекладывают шарики руками; даже 3-летние малыши прекрасно понимают: нет доказательств — не виноват. Правда, большинство детей все же сдержали обещание, хоть это и стоило им награды. Поистине, когда видишь такое, начинаешь больше верить в возможности воспитания.
«А все-таки,— слышу я голос скептика,— почему вы уверены, что ребенок, выполняющий задание в одиночестве, делает это из чисто моральных соображений? Да, нарушение не оставляет следов, но все равно малыш может опасаться, что взрослый узнает о проступке. Это и сдерживает его».
Если возможен такой вопрос, значит, мы недостаточно очистили нашу экспериментальную ситуацию от внешнего контроля. В самом деле: «Ведь взрослый так умен, проницателен, а вдруг он каким-то «шестым чувством» догадается, что я не сдержал обещания? По глазам узнает? Нет уж, лучше я воздержусь» — так, наверное, рассуждает ребенок. Придется нам усовершенствовать наш «психорентген» — освободить ребенка и от этого страха. Но как? Сказать ему прямо, что за нарушение нормы наказания не последует, означает разрушить всю психологическую ситуацию. Снять нравственный конфликт. Это нам не подходит. А что, если…
«Послушай,— скажем мы малышу, проявившему моральные качества,— ты пока посиди тут в комнате, посмотри картинки». А теперь пригласим в комнату другого ребенка, склонного к нарушению, и попросим его выполнить задание. «Переложишь шарики — получишь конфету,— говорим мы ему.— Но только трогать шарики руками нельзя». Теперь выйдем из комнаты. Что произойдет?!
Вот проходит минута, другая… и ребенок, выполняющий задание, не выдерживает. Шарик мгновенно перекочевывает в банку. Ребенок-наблюдатель, оторвавшись от книги, как зачарованный глядит на дерзкий поступок сверстника. Иногда делает ему замечание: «А руками нельзя». Войдем в комнату: «Ну как, переложил?» Конечно, маленький «нарушитель» будет убеждать нас в том, что все сделал правильно. Что ж, не будем подвергать это сомнению. «Ну, лопаткой — так лопаткой. Молодец, бери конфету». Добившись своей цели, ребенок уходит… А мы, повернувшись к «наблюдателю», вновь предлагаем ему выполнить задание: «Попробуй еще раз, может, получится». Покидаем комнату.
Вот и наступил решительный момент. Если раньше у ребенка и были опасения перед взрослым, то теперь их нет. Ведь малыш видел: взрослый не станет допытываться, как выполнено задание. Он поверит на слово. А значит, бояться нечего. Тут-то и выяснится, соблюдал ли малыш условие из чисто моральных соображений, или просто боялся наказания.
Оказалось, что после очистки опыта число детей, соблюдающих заданное условие, резко упало. Из сотен детей 3—5 лет условие выполнили лишь 19%; среди детей 6—7 лет таких значительно больше, но все же не так много — 29%. Зато теперь мы можем быть уверены: да, дети, выполняющие норму честности, делают это не из страха перед наказанием. Мотивация их поведения подлинно нравственна, бескорыстна.
Итак, мы видим: есть два типа морального поведения. Один — соблюдение норм из соображений личной выгоды. Страх перед наказанием, стремление выглядеть перед людьми в лучшем свете — вот мотивы такого морального поведения. Не будет этих мотивов, не будет контроля со стороны — и моральная норма потеряет для человека свое значение. В основе поведения другого типа — стремление человека сохранить нравственную самооценку. Сберечь в своих собственных глазах уважение к себе. Такое поведение не зависит от внешнего контроля. Назовем первый тип морального поведения прагматическим, второй — бескорыстным. И ведь внешне их не отличишь. Трудно понять, почему человек соблюдает норму. Истинна ли, бескорыстна ли его мораль? Для этого и нужен «психо-рентген».
Ну хорошо, а как же быть с теми, которые все-таки нарушают? Давайте из любопытства останемся в комнате во время выполнения задания. Ну конечно, так мы и думали! Никаких нарушений. «Разумеется,— как бы говорит нам ребенок,— я очень хочу эту конфету, но ведь если я переложу руками, все равно мне ее не видать. Нет, уж лучше я покажу вам, что я хороший». Ну до чего же хитры! Посмотрите, как Владик пытается удалить взрослого из комнаты:
— Я хочу, чтобы вы ушли, а я хоть пять шариков переложу.
(Экспериментатор молча пишет.)
— Ну уйдите, дядя.— Продолжает доставать шарики лопаткой, наблюдая за взрослым. Через пять минут говорит:
— А вы уйдите, спрячьтесь за уголок, я крикну вам «ку-ку», и вы войдете.
— Но я хочу посмотреть, как ты достаешь шарики.
— Вы спрячьтесь. Если вы будете смотреть, я конфету не получу.— Продолжает доставать лопаткой. Затем объявляет:
— Ну что, дяденька, может, хватит мне возиться, вы спрячьтесь, а я достану.
— Я хочу посмотреть, как ты достанешь.
— А вы сзади меня постойте три минуты, а я переложу, только вы не подсматривайте.
— Почему?
— Потому что я делаю фокус-покус.
Ладно, сделаем вид, что хитрец добился своего, уйдем из комнаты, но оставим вместо себя другого ребенка. Кажется, хитрец не очень-то доволен: «Ушел, а соглядатая оставил. Надо что-то предпринимать»,— говорит он всем своим видом.
Просто поразительно, до какой степени 4—5-летние дети знают и умеют использовать слабости друг друга. Вот 4-летняя Надя, горя нетерпением отвлечь наблюдателя, просит его спеть песенку. Оказывается, ей хорошо известно, что, когда Владик поет, он смотрит в потолок. Отзывчивый Владик, конечно же, не может упустить случая показать свое вокальное мастерство, и пока он заливается, задрав голову кверху, Надя спокойно перекладывает шарики руками. Пятилетняя Вита маневрирует по-иному: девочка предлагает партнеру полюбоваться игрушками у него за спиной. Не подозревая подвоха, партнер отворачивается; Вита быстро перекладывает шарики рукой и, постучав лопаткой о ведро, вздыхает:
— Ух, кое-как лопаткой переложила.
Слов нет, многие малыши оказались просто-таки мастерами психологической обработки партнера. Но верно говорят: ничто не дается даром. Было очевидно, что дети, обманувшие взрослого, испытывали неприятные переживания. Выявился интересный факт: до опыта большинство детей с любопытством смотрели книги, картинки, беседовали с экспериментатором, охотно шли на общение с ним. Однако стоило малышу обмануть, как поведение его резко менялось. Он замыкался в себе, краснел, опускал голову и стремился как можно скорее уйти из комнаты, приводя различные мотивировки («Устал»; «Обедать пора»; «Товарищи ждут»). Чувствовалось, что полученная нечестным путем конфета мало радовала ребенка.
Еще ярче муки совести были выражены у детей, которым не удалось «обработать» партнера.
Так, 5-летняя Вера в присутствии партнера переложила шарики рукой. Входит экспериментатор:
— Вера, ты лопаткой достала?
— Лопаткой.
Света (партнер) не выдерживает:
— Она руками перекладывала, я видела.
Экспериментатор обращается к Свете:
— Света, я не тебя спрашиваю, а Веру. Я верю детям на честность. Ты ведь не трогала шарики руками, Вера? Если нет, бери конфету и иди в группу.
Вера стоит не отвечая на вопросы. На лице смущение. Экспериментатор повторяет вопрос. Вера направляется к двери, на награду даже не смотрит, хотя раньше ела конфеты с удовольствием. Экспериментатор обращается к девочке:
— А что же ты конфету не берешь?
— Не хочу.
Другой малыш, 5-летний Коля, тоже был уличен партнером. Экспериментатор спрашивает:
— Коля, разве ты шарики руками трогал?
— Нет, не трогал.
— Ну, раз не трогал, все честно сделал, бери конфету.
Коля берет, затем с обидой бросает конфету на стол:
— Не нужно мне вашей конфеты, я пойду в группу.— И стремительно выбегает из комнаты, повторяя:
— Не нужно мне вашей конфеты!
Что же получается? Почему желанная награда, ради которой малыш пошел на такие жертвы, вдруг перестала привлекать его? А потому, что стала горькой. Горькой не на вкус, а «по своему субъективному, личностному смыслу» (А. Н. Леонтьев).
Все мы так или иначе испытали когда-нибудь муки раскаяния — чувство тяжелое, но благотворное. Трудно предположить, что стало бы с людьми, не будь этого простого человеческого чувства. Конечно, не все маленькие нарушители испытали укоры совести; некоторым обман дался легко. Это не страшно. Не надо забывать, что наши испытуемые стоят лишь на пороге нравственного развития. Важно другое: большинство старших детей не нарушили правила игры не только в присутствии взрослого, но и в присутствии сверстника. А это значит, что они начинают воспринимать сверстника как человека, стоящего на страже нравственных норм.
«А вам не кажется,— скажет читатель,— что вы даете ребенку слишком сложную задачу? Ведь он не понимает, зачем соблюдать ваше правило. Вот если бы было ясно, что нарушение приносит горе другому человеку, то дети бы не нарушали».
В самом деле, а что если нам сыграть на сочувствии? Ведь в нашем опыте мы едва ли могли рассчитывать на сочувствие малышей. «Подумаешь, на одну конфету станет меньше. У него их целый кулек» — так, наверное, рассуждали нарушители. Нет, надо придумать что-нибудь такое, что могло бы взять ребенка за душу, выдвинуть условие, при нарушении которого малышу было бы ясно, что он причиняет боль другому человеку.
Какое? А хотя бы вот это. Попросим двух детей распределить между собой четыре игрушки. Две из них — яркие, красивые (луноход и автоматический пистолет), а две другие — маленькие, невзрачные (пирамидка и мишка). Ясно: каждому захочется взять себе две лучшие игрушки; очевидно и то, что партнеру это вряд ли понравится. Тут и будет видно, есть ли у малышей сочувствие к сверстникам и поможет ли оно в соблюдении моральных требований.
Для начала расскажем детям историю про двух мальчиков, которые распределяли между собой такие же игрушки, причем один забрал себе обе хорошие, а товарищу оставил плохие. Спросим у наших испытуемых, хорошо ли поступил Миша и как бы они поступили на его месте.
А теперь используем «рентген». Отошлем одного ребенка из комнаты, а другому предложим распределить между ним и партнером игрушки, пообещав отдать их затем на целый день. Да не будем смущать малыша своим присутствием — выйдем из комнаты и понаблюдаем за его поведением через экран.
Но что это? Похоже, что дети не очень-то сочувствуют друг другу. На словах все распределяют игрушки справедливо, а на деле большинство малышей без зазрения совести забирают себе самые лучшие. Да еще и оправдывают свои поступки с красноречием, которому позавидует взрослый. Правда, самые старшие (6—7 лет) оправдали наши ожидания, но и среди них оказалось немало нарушителей. В целом сочувствие, если оно и было, не помогло детям соблюсти моральную норму.
«Ну, не спешите,— продолжит дискуссию читатель.— А было ли тут сочувствие вообще? Подумаешь, ущерб — лишить партнера игрушки. Такой мотив сочувствия может и не вызвать. Вот если бы что-нибудь посильнее придумать».
Что же, можно и посильнее. Попросим двоих детей поиграть какой-нибудь сложной игрушкой, например электрическим луноходом. Через день-два снова пригласим их в комнату и дадим поиграть той же игрушкой, предварительно отключив контакты у батарей. Что произойдет? Конечно, малыши будут безуспешно пытаться включить машину, и вошедшему экспериментатору нетрудно будет убедить их, что они «пережгли мотор». А теперь отошлем одного из детей, а другого попросим рассказать, как было дело, кто «испортил» машину.
Разумеется, каждому захочется обелить себя, уйти от ответственности, но ведь это можно сделать только за счет партнера. Вот мы и увидим, в какой степени сочувствие к сверстнику сможет помочь малышу поступить морально — взять часть вины на себя. Надо только не забыть по окончании беседы снять с ребенка вину и на глазах у него «наладить» машину.
Но вначале, дабы не изменять нашему методу, удостоверимся, знают ли дети от том, как надо поступать в подобном случае. Расскажем им новую историю про Петю и Вову, которые на этот раз сломали дорогую игрушку. Петя испугался и сказал, что игрушку сломал Вова, а он, Петя, ни в чем не виноват. Взрослый наказал Вову, а Петю отпустил в группу. Хорошо ли поступил Петя?
Ну вот видите, не зря мы проявили осторожность. Оказывается, самые маленькие (3 г.) даже на словах перекладывают всю вину на товарища. Они искренне не понимают, как это можно пожертвовать собой. Значит, не стоит их и допускать к опытам. Зато старшие в большинстве очень благородны: некоторые не только делят ответственность поровну, но даже готовы взять всю вину на себя.
А теперь поставим детей в реальную ситуацию. Посмотрите, как ведет себя 6-летний Вася. Прослушав историю, Вася говорит:
— Петя поступил плохо. Он сказал неправду. Они двое ее сломали, а Петя сказал, что он не виноват, и все свалил на Вову.
— А ты бы что сказал на его месте?
— Что мы вместе с Вовой сломали.
Оставшись одни, Вася с партнером безуспешно пытаются завести игрушку. Входит экспериментатор, отсылает партнера, спрашивает:
— Вася, кто сломал игрушку?
— Мы оба, Вова и я, мы сломали.
— Кого же мне наказать: тебя, Вову или вас обоих?
— Обоих.
— Может быть, это он сломал, а ты не виноват?
— Нет, я тоже трогал, мы вместе с ним сломали.
Теперь послушаем Владика. Он тоже осуждает поступок героя истории, а на вопрос, что бы он сделал, отвечает: «Сказал бы, что мы вместе случайно сломали».
А вот что он говорит после того, как в действительности «сломал» игрушку вместе с партнером:
— Владик, кто сломал луноход: ты, Олег или вы оба?
— Знаете что… Олег… Вы ушли, а Олег его поднял, опустил… а я взял, а он не работает.
— Так кто же сломал?
— Я думаю, что он сломал; ну, он взял и на две кнопки сразу нажал.
Оказывается, Вася в явном меньшинстве, а большинство детей в этих обстоятельствах пытаются переложить вину на партнера. А теперь снимем с детей ответственность, починим луноход. Вот так сюрприз: почти все, даже самые маленькие, проявляют удивительное великодушие. Посмотрите на Диму (6 лет). В первом опыте на вопрос «Кто сломал?» Дима ответил: «Не знаю, я считаю, что Саша». А вот что он говорит после «починки»: «А вот сейчас я подумал, может быть, мы оба… а может быть, я… потому что, вы знаете, это я первый нажал… Наверное, я сломал».
Теперь мы окончательно убедились, что сочувствие к сверстнику явно не мешает ребенку нарушать моральные нормы. Слов нет, в двух последних случаях наши испытуемые имели гораздо больше оснований сочувствовать «пострадавшему» ребенку, чем в ситуации с шариками. Но нарушали моральную норму они ничуть не меньше. Да и может ли вообще сочувствие лежать в основе морали? Одному мы сочувствуем, другому нет, третьего ненавидим. Значит ли это, однако, что с первым мы должны вести себя морально, а со вторым и третьим поступать так, как нам вздумается? Нет, причину морального поведения надо искать в другом месте.
Но не будем забегать вперед. Давайте посмотрим на наши опыты под иным углом зрения. Не сомневаюсь, что вам нередко приходилось слышать и говорить о людях: «У него хороший характер»; «дурной характер»; «ужасный характер». А что же тут, собственно говоря, имеется в виду? Что такое характер?
«Ну как что? — слышу я в ответ.— Характер — это… когда человек ведет себя одинаково в разных случаях жизни, хорошо или плохо. Вот мы и говорим: хороший или плохой характер». Наверное, вы правы. Ну разве можно было бы общаться с человеком, который в каждой новой ситуации менял бы стиль своего поведения? Такой человек не был бы личностью, и общение с ним было бы невозможно.
Итак, у каждого свой характер. И меньше всего в этом сомневаются дети. Знаете, с чего начинает малыш знакомство с другим существом — будь то человек, животное или сказочный герой? С выявления характера. Ему не очень важно знать, сколько у нового знакомого ног, есть ли уши, ездит ли он в автомобиле или летает на метле; важно другое — плохой он или хороший, добрый или злой.
А что, если проверить на опыте, существует ли характер у маленьких детей? Ведь это совсем нетрудно. Поставим малыша в разные ситуации, где требуется моральное поведение, и убедимся, ведет ли он себя одинаково во всех случаях или в зависимости от обстоятельств «меняет кожу». Надо только подчеркнуть, что речь здесь идет лишь о «моральном характере», а могут быть и другие виды характера.
Что же получилось? А вот что. И самые маленькие, и самые старшие дети действительно обладают «моральным характером»: ведут себя одинаково во всех ситуациях. Правда, маленькие дети в основном всегда нарушали моральные нормы, а старшие всегда их соблюдали. Дети же среднего возраста (5 лет) в разных обстоятельствах вели себя по-разному. Иными словами, малыши обладают «плохим» характером, старшие — «хорошим», а «середнячки» постоянно «меняют кожу».
О чем это говорит? Да просто о том, что ребенок не родится с хорошим характером. О том, что моральное поведение — продукт длительного и сложного развития. И конечно же, это развитие не кончается в дошкольном возрасте. Оно длится всю жизнь.
«А все-таки, как же быть с нарушителями? — спросит читатель.— Не пора ли нам наконец раскрыть карты и воздать нарушителю по заслугам?»
Не думаю. Конфеты уже не вернешь, зато контакт с ребенком можно потерять. Кому же приятно узнать, что посторонний подсмотрел наши маленькие слабости? Да и не вернемся ли мы тем самым к оставленному нами методу кнута и пряника? Стоило ли тогда трудиться? Ведь сам по себе этот метод не нуждается ни в каком «психологическом рентгене». Нет, тут надо придумать что-то поинтереснее.
Давайте на время оставим наши размышления и совершим небольшое путешествие. Пункт назначения — Тихий океан, острова Полинезии. Именно здесь, на Самоа, в 20-х гг. нашего века и проводила свои исследования американский психолог и антрополог Маргарет Мид.
Наблюдая за ходом развития самоанских детей, она обнаружила интересный факт. Оказывается, главным занятием юных островитян в возрасте от 4 до 7 лет является… воспитание детей! Семьи на Самоа очень большие, и у каждого 4-летнего малыша непременно имеется маленький братик или сестренка; их-то мать и поручает его попечительству. С утра и до вечера ребенок выполняет обязанности няни: «Не кричи»; «Не лезь в воду»; «Не сиди на солнце»; «Не мешай взрослым» и т. д.— вот нехитрые заповеди, которым он должен обучить младшего. Хочешь поиграть со сверстниками — бери подопечного на спину; провинился малыш — отвечает «няня».
И вот что интересно: до 2—3 лет малыш на Самоа капризен, своеволен, непослушен — настоящий маленький тиран. Но стоит ему самому стать воспитателем, наступает резкая перемена: ребенок начинает выполнять все правила, которым обязан обучить малышей. Не значит ли это, что потребность выполнять те или иные правила возникает у ребенка не тогда, когда его заставляют это делать, а тогда, когда он сам становится в положение взрослого, воспитателя, проводника и защитника этих норм?
Но вернемся в наши широты. Всякий, кто когда-либо имел дело с ребенком, знает, сколь велико желание дошкольника помочь взрослому в его серьезной деятельности: помыть посуду, убрать в комнате, починить радиоприемник. Правда, толку от этой помощи мало, а хлопот много; верно и то, что, к несчастью, в школьном возрасте такое желание у детей ослабевает. Но для дошкольника нет более увлекательного занятия, чем, помогая отцу или матери, суетиться рядом. Психологи назвали эту удивительную потребность детей потребностью «принять участие в жизни и деятельности взрослых».
Что если мы воспользуемся этой потребностью ребенка и дадим ему возможность помогать нам… в воспитании других детей? Может быть, подобно маленьким жителям Самоа, в роли воспитателя они сами начнут соблюдать правила, выполнения которых требуют от других?
Кто из нас не знаком с работами выдающегося педагога А. С. Макаренко. Именно он впервые в советской педагогике выдвинул и реализовал принцип «сменного руководства», заключающийся в поочередном возложении на каждого члена группы ответственности за поведение товарищей. Идя по стопам А. С. Макаренко, советские психологи Т. Е. Конникова, С. Г. Якобсон, М. И. Боришевский и другие доказали, что постановка ребенка в позицию «правилоносителя» благоприятно влияет на его поведение. Ну чем не подтверждение древнего самоанского опыта? Правда, в этих исследованиях не был использован «психологический рентген» и оставалось неясным, за счет чего дети, побывавшие в позиции воспитателя, начинали вести, себя лучше: потому ли, что у них пробудилась «совесть», или просто оттого, что они не желали на глазах у сверстников нарушать правила, которым ранее заставляли подчиняться товарищей.
Давайте проверим. Попросим тех, кто в условиях «психологического рентгена» нарушал правила, обучать им других детей. И не только обучать, но и следить, чтобы они соблюдались.
«Простите,— могут мне возразить,— но разве можно плохо воспитанных детей делать воспитателями? Да ведь они и других-то испортят!» Но не будем спешить с выводами и посмотрим, что покажет эксперимент.
Один из наших испытуемых, 5-летний Альгис, в предшествующих опытах не задумываясь нарушал правила. Он с удовольствием соглашается принять на себя роль воспитателя. Но как же нелегка эта роль. Вот Альгис следит за поведением Виталика. Виталик говорит:
— Я руками достану, ты не скажешь?
— Скажу.
— Тогда ты не будешь больше другом, я всем расскажу, что ты ябеда, как девочка.
Альгис смущен, он говорит:
— Нельзя руками доставать.
Виталик продолжает работать лопаткой, затем говорит:
— А если бы ты не сказал, я бы с тобой конфетой поделился.
Альгис молчит. Виталик перекладывает шарики рукой. Альгис возмущенно:
— А я скажу дяде.
Виталик больше не делает попыток отступить от правила.
Так же ведет себя Альгис и с другими детьми: сверстниками и малышами. Когда, наконец, ему самому предлагают выполнить задание и оставляют одного, он упорно работает лопаткой, затем перекладывает два шарика рукой, но возвращает их в ведро и уже больше не отступает от правила.
Что же мы получили?
Во-первых, оказалось, что почти все нарушители с радостью согласились играть роль воспитателя, с гордостью обучали малышей, не допускали нарушений, отступлений от правила.
Во-вторых, когда мы вновь предложили нашим «воспитателям» выполнить задание в одиночестве, больше половины из них не нарушили условия. И не потому что боялись наказания; ведь им-то по личному опыту было известно: «Не пойман — не вор». Наверное, у детей и в самом деле появились моральная потребность, желание выполнять правило не из выгоды, а бескорыстно.
«А правомерно ли вообще использовать этот метод? — спросят меня.— Хорошо ли делать ребенка надсмотрщиком и ябедой?»
Вопрос серьезный. В самом деле, не повредит ли ребенку то, что мы выделяем его среди других? Да и роль надсмотрщика не воспитывает. Скорее наоборот: ребенок заставляет сверстников соблюдать какое-то правило, а сам, возможно, втихомолку смеется над ними.
Казалось бы, логично. Логично, но… неприменимо по отношению к нашим испытуемым. Важна-то ведь не сама по себе роль, а то, что побуждает ребенка ее выполнять. Допустим, малыш берет на себя руководящую роль, желая получить награду или одобрение взрослого. Вряд ли он будет уважать нормы, которым обязан подчинять других. Ведь они для ребенка — лишь средство достижения каких-то иных целей.
Но представьте другое: ребенок берется руководить не «ради славы»; его главная цель — стать «как взрослый», попытаться делать то же, что делает взрослый человек. Соблюдение моральных норм для малыша — предмет личной гордости, а не способ извлечь выгоду. Такой не станет лицемерить и нарушать нормы даже вдали от посторонних глаз. Вот и получается: роли те же, а дети разные.
А теперь спросим себя: что же побуждало наших испытуемых взять на себя роль воспитателя? Ясно одно: не «слава» и не награда. Дети выполняли роль с радостью и все же бескорыстно.
«Но позвольте,— не выдерживает критик,— испытывают же они от своего поведения какое-то удовлетворение? Как же так: от конфеты отказался да еще и удовольствие получил?»
Конечно, получил. Но это удовольствие совсем иного рода, чем удовольствие от съеденной конфеты или родительской похвалы.
Допустим, вы много лет играете в шахматы с соседом и, не будучи сильным игроком, проигрываете гораздо чаще, чем одерживаете верх. Вы хорошо усвоили: партнер сильнее вас, поэтому проигрыш вас мало огорчает. Зато выигрыш приносит бурную радость. Предположим теперь, что вы поступили в шахматную секцию и за короткое время стали играть гораздо лучше своего соседа. Теперь уже проигрыш вы воспринимаете с большим огорчением; очередная же удача не радует вас так, как раньше. Что изменилось? Конечно, изменилось ваше умение играть в шахматы, но другим стало и ваше отношение к себе. Вы и не заметили, как переставили себя на «пьедестале» шахматного мастерства с третьего места на первое, а сосед так и остался на втором. Такое отношение к себе психологи называют самооценкой.
Самооценка, высокая или низкая, есть у каждого человека почти в любом виде деятельности. Если вы инженер, то не обидитесь, когда вам укажут на отсутствие у вас музыкального слуха, но вас сильно заденет упрек в неумении читать чертежи. Ребенок тоже не исключение. Малыш постоянно сравнивает себя со взрослым; он не только понимает, но и чувствует превосходство взрослого в знаниях, умениях, физической силе. Потребность сравняться со взрослым, повысить собственную самооценку — разве это не мощный стимул психического развития ребенка?
Что же произошло с детьми, на которых так благоприятно повлияла роль воспитателя? Ну конечно, изменилась, повысилась их самооценка! Если бы ребенок мог выразить собственные чувства словами, он, наверное, сказал бы нам: «Вы доверили мне то, чего раньше никогда не доверяли: ведь только взрослые воспитывают. Значит, вы считаете меня взрослым, оцениваете меня как уже большого. Ну как же я теперь могу нарушить правило? Тогда ведь я обману ваше доверие, поступлю не как большой, а как маленький. Нет, уж лучше я буду делать так, как делают большие, взрослые люди».
Наконец-то мы можем ответить на вопрос критика: именно возросшая самооценка, чувство собственного достоинства и доставляют ребенку удовольствие от соблюдения правил. А такое удовольствие явно не из ряда тех, которые нам могут доставить или не доставить другие люди. Оно зависит только от нас. Оно бескорыстно. Именно поэтому наши дети не надсмотрщики, а подлинные защитники моральных норм.
Кроме того, не будем забывать: для старших дошкольников желание быть проводниками и защитниками моральных норм является естественным. Помните, как вели себя дети, когда у них на глазах товарищи пытались обмануть взрослого? Поэтому, поручая ребенку роль воспитателя, мы не отделяем его от сверстников. Мы лишь используем потребность, которая сложилась у малыша и без нас.
Но может быть, нравственную самооценку можно повысить по-другому? Ведь сделать ребенку добро, оказать доверие можно по-разному. Например, малыш совершил проступок, заслуживает наказания. Готов принять наказание как должное. Но что это? Взрослый вдруг прощает ребенка. Он как бы говорит этим: «Да, ты совершил ошибку. Но все же я считаю тебя хорошим человеком. Добрым, честным, справедливым. Я прощаю тебя. Я знаю: в будущем ты этой ошибки не повторишь». Разве это — не доверие? Разве ребенок, получив прощение, не может и сам отнестись к себе как к честному, доброму, справедливому? Вырасти в собственных глазах? Разве при этом не возникает то, что мы называем нравственной самооценкой? Может быть, да. А может, и нет. Попробуем проверить это на опыте.
Пригласим ребенка, нарушавшего норму честности в известной нам экспериментальной ситуации, в комнату и предложим поиграть интересной игрушкой, например электрическим вездеходом. Вдруг в ходе игры машина «ломается». Малыш огорчен. Он сломал игрушку, и не свою — чужую. Не менее его огорчен и взрослый: «Эх, такая была игрушка… Я ведь просил тебя быть с ней аккуратнее… Что же я теперь буду делать?» Изобразив огорчение, почти отчаяние, взрослый вдруг смягчается: «Ну что ж, я тебя прощаю. Ты, наверное, просто увлекся, забыл об осторожности». Ребенок облегченно вздыхает.
Подождем день-другой. А затем вновь предложим малышу задание с шариками. Что произойдет? Если акт прощения повлиял на ребенка, повысил его стремление держать свое слово, вряд ли он станет вновь нарушать моральную норму.
Догадка подтвердилась. В нашем «тестовом» опыте среди детей, прошедших через акт прощения, существенно возросло число тех, кто стал придерживаться нормы честности. За этот же срок в контрольной группе (не участвовавшей в опыте с прощением) число нарушителей практически не уменьшилось.
Итак, прощение вины — еще одно средство воспитания подлинной нравственности. И не только в эксперименте. А реальная жизнь? А доброжелательное общение с ребенком? Ведь что значит быть добрым? Это значит — забыть о себе. О своих нуждах. Ставить нужды ребенка выше своих. А это очень трудно. Ребенок шалит, кричит. Он требует внимания, заботы. Просит, чтобы с ним поиграли. Ему нет дела до того, что в данный момент вы устали, раздражены. Что у вас неприятности на работе. Что больше всего на свете вам хочется отдохнуть. Но вы пересиливаете себя. Отзываетесь на просьбы малыша. И вот развертывается игра. Ребенок охвачен ею, но… он чувствует, понимает и другое: вы согласились играть, вы отнеслись к нему как к значимому, равному. Вы не пожалели для него своего «взрослого» времени, своих «взрослых» сил. И он поднимается в собственных глазах. А что, если и это попытаться проверить экспериментально?
Возьмем две группы детей. Обе укомплектованы из нарушителей нормы честности. С детьми одной группы взрослый вступает в длительное, интересное, эмоционально-приятное общение. Читает им книги, ходит с ними на прогулку, играет в ролевые игры, водит в кино… Каждый день отдает он детям часть своей души. И — ни окрика, ни хмурого взгляда, ни раздраженного жеста. В другой группе взрослый появляется редко, с детьми почти не общается. Проходят дни, недели, месяцы. А теперь — повторный эксперимент. Оказалось: среди детей первой группы появилось очень много таких, которые стали соблюдать моральную норму. Все дети второй группы по-прежнему нарушали ее.
Итак, три метода: приобщение к позиции взрослого; прощение проступка; эмоционально-позитивное общение. Все они оказали благоприятный эффект на воспитание у детей бескорыстного нравственного поведения. Все способствовали возникновению элементов нравственной самооценки. Что же в них общего?
Внешне почти ничего. Кроме того, что воспитатель, применяющий их, относится к ребенку бескорыстно. Ставит интересы малыша выше своих. Оказывает ему доверие, не боясь риска быть обманутым. Отказывается от эффективного и быстрого средства управления поведением — наказания. Отказывается в ущерб себе. Своему спокойствию, своему отдыху. Своему (чего греха таить!) естественному желанию покомандовать. Все это вместе — разные черточки, разные грани одного и того же особого стиля отношения взрослого к ребенку, стиля общения. Назовем этот стиль бескорыстным.
При таком стиле общения один человек отдает себя другому, помогает ему, не требуя ничего взамен.
Но есть и другой стиль общения, основанный на личной выгоде, на принципах: «Ты — мне, я — тебе»; «Добро за добро, зло за зло». На принципе взаимовыгодного обмена. Это — прагматический стиль. Тут партнер по общению — средство для достижения наших целей. То же и мы для него. Такое общение — обмен эквивалентами. Не только материальными, но и духовными. Когда мы наказываем или поощряем ребенка, то реализуем прагматический стиль. Осуществляем принцип «ты — мне, я — тебе». Ты мне причинил неудобство, зло — получай наказание. Выполнил мою просьбу, сделал мне приятное — вот тебе награда. Конечно, наказания и поощрения очень разнообразны. Можно лишить ребенка «любви», можно наказать его словом, жестом, намеком, интонацией голоса. Можно наказать делом. Бывают легкие и сильные, мягкие и жесткие наказания. Но суть их, стиль общения от этого не меняется.
Наши опыты показали: подлинно нравственное, бескорыстное поведение возникает тогда, когда взрослый практикует по отношению к ребенку бескорыстный стиль общения. В каких бы формах (приобщение к позиции взрослого, прощение проступка, эмоционально-позитивное общение и др.) он ни выступал. Ощущая на себе бескорыстную доброту другого, ребенок и сам начинает относиться к себе как к доброму, нравственному человеку. У него возникает нравственная самооценка. А это и есть мотив подлинно нравственного поведения.
Наоборот, прагматический стиль общения, воспитание методом наград и наказаний, способно сформировать лишь прагматическое нравственное поведение; соблюдение норм лишь в условиях внешнего контроля. Когда же этот контроль ослабевает, ребенок отклоняется от нравственных норм. Помните, когда взрослый оставался в комнате, даже стойкие нарушители казались вполне «воспитанными»?
«Итак, вы предлагаете отказаться от метода кнута и пряника, свести все воспитание к бескорыстному стилю общения?» — слышу я вопрос. Нет. Прежде всего потому, что это невозможно на практике. Бывают в жизни случаи, когда без наказаний обойтись нельзя. «Без применения какой-либо формы наказания,— пишут венгерские психологи Й. Раншбург и П. Поппер,— воспитывать ребенка практически невозможно, разве только чисто теоретически, так сказать, на бумаге». Увы! Это невозможно и на бумаге. Без верха нет низа. Без холода — тепла. Без корысти не было бы и доброты. Такова непростая диалектика жизни. Где же выход?
Выход один: разумное сочетание того и другого, прагматического и бескорыстного общения. В какой пропорции? А вот это точной дозировке не поддается. Решайте сами. Пусть это подскажут вам ваша мысль, ваше сердце.
Итак, к чему же мы пришли? Мы убедились, что примерно до 2—3 лет ребенок — существо непосредственное. Он еще не может сдерживать свои желания, подчинять неважное важному, второстепенное главному; его поведение похоже на поведение мотылька, порхающего с цветка на цветок. И не нужно быть специалистом-психологом, чтобы понять: малыша еще нельзя обвинять, он еще не дорос до морали.
Нелегко родителям в этот период: прошла «золотая» пора, когда ребенок лежал в пеленках или ползал в манеже. Теперь все — от бумаги на столе до собрания классиков, от авторучки до телевизора — объекты его бурной исследовательской деятельности. Убирайте ножи и вилки, прячьте стекло и книги, закрывайте розетки; иначе игра может окончиться плохо. Спрашивать-то не с кого. Физически ребенок может многое, а моральной ответственности не подлежит. А сколько драгоценного времени «съедает» у нас маленький исследователь: его ведь ни на минуту нельзя оставить одного!
И вот беда: хочется наказать, а нельзя. Раз не подлежит моральной ответственности, значит, не наказуем. А все-таки нужно иногда заставлять ребенка делать то, чего он сам не хочет. Хорошо еще, что маленький упрямец серьезно относится к бабе-яге или волку, уважает мнение любимой куклы; хочешь не хочешь, а приходится прибегать к этим «авторитетам» (американские индейцы Хопи даже ввели для малышей специальную «милицию». Раз или два в год деревню обходит Сойко — пугало в маске: в страхе перед ним дети слушаются родителей).
И вот наконец малыш научился владеть своими желаниями. Теперь он может делать то, что нужно, а не только то, что ему хочется. Тут-то мы и предъявляем ему моральные требования: выполнил — получай награду, не выполнил — «плати по счету», получай наказание. Казалось бы, можно вздохнуть с облегчением: поставить на место стеклянную посуду, достать ножи и вилки, оставить книги на столе. И все же мы знаем: до настоящего, подлинно морального поведения еще далеко. Ведь ребенок ведет себя хорошо лишь из соображений выгоды, а не потому, что это стало его внутренней моральной потребностью.
Но тут кое-что происходит: у детей возникает новая форма деятельности — коллективная. Ролевая игра, труд, конструирование — вот где ребенок должен не только подчиняться, но и активно отстаивать нормы поведения. В игре ведь каждый участник и актер, и режиссер, и контролер. А главное, тут надо соблюдать не только правила игры, но и моральные правила: не драться, не обманывать, держать свое слово и др.
«Вот теперь ясно,— скажет читатель.— Где совместная детская деятельность, там и роль воспитателя, а где роль воспитателя, там появляется моральная потребность».
Верно, и все же не совсем. Ведь мы знаем: важна не сама по себе роль, а что побуждает к ней ребенка. В коллективной деятельности для малыша роль воспитателя не главное. Главной она становится тогда, когда мы, взрослые, начинаем считать ребенка ответственным за поведение других детей.
Представьте, что у вас двое детей: старший и младший. Из соседней комнаты вы заметили, что младший на глазах у старшего опрокинул и разбил вазу. Когда вы вошли, малыш сказал, что вазу разбил соседский мальчик, приходивший в гости. Старший слышал это, но не поправил его. Признаете ли вы старшего ребенка виноватым? Накажете ли?
Такие и подобные этим вопросы мы задавали родителям в той же анкете, с которой начали эту главу. И тут опять все решает возраст ребенка. Если малышу 3 г., мало кто из родителей сочтет его виновным. Если же 5—7 лет, ответ почти всегда единодушен: виноват.
Итак, 5-летний отвечает не только за свои поступки, но и за поведение младших. Это значит, что мы, взрослые, сознательно или бессознательно, передаем ему некоторые функции воспитателя. И совсем не обязательно, чтобы у ребенка был младший братик или сестренка. Ведь он встречается с детьми и за порогом дома: в дошкольном учреждении, на улице, в гостях…
Теперь мы видим, что начиная с 2 лет ребенок входит в сферу действия моральных норм. Узнает, что хорошо, что плохо. Вступает в действие социальный контроль. Сначала взрослые, а затем и сверстники начинают следить, чтобы он соблюдал определенные нормы поведения. Хочешь сохранять хорошие отношения со взрослыми? Хочешь играть со сверстниками? Придерживайся норм. По крайней мере тогда, когда ты под контролем… Усложняются нормы… Растет их число… Усиливается контроль…
Но вот наступает момент — и происходит удивительное. Бескорыстное общение, которое «течет» к малышу со стороны близких взрослых, дает, наконец, свой эффект. Возникают первые формы, зачатки бескорыстного морального поведения. Поведения, основанного на нравственной самооценке. В недрах прагматической морали зарождается и растет мораль бескорыстная. Отделяясь от первой, она образует свой — сначала маленький, а затем все более полноводный — ручеек.
Конечно, с бескорыстным общением ребенок постоянно встречался и раньше. С первых дней жизни близкие взрослые отдавали ему себя. Свое время, силы, здоровье. Освобождали его от забот о хлебе насущном. Играли с ним, учили. Но, потребляя добро, малыш не мог оценить его. Не замечал, как мы с вами не замечаем своего дыхания или биения сердца. Ведь, чтобы оценить добро как «добро», надо знать, что такое зло. Необходимо не только жить в мире, но и понимать мир.
Проходит время. Ребенок овладевает навыками, умениями, речью. Приобретаются первые знания. В том числе — знания о моральных нормах. Появляются представления о добре и зле. Сначала эти представления слиты с представлениями о героях сказок, мультфильмов, книг, но постепенно отделяются от них. И вот ребенок «вооружен». Он смотрит на мир сквозь «сетку» своих представлений. Теперь бескорыстное общение взрослых, которое раньше лишь потреблялось малышом, воспринималось им как нечто естественное, как необходимый элемент его жизни, ребенок начинает выделять и оценивать как «добро». У ребенка «открываются глаза». Раньше, причинив ущерб взрослому, он не воспринимал прощение как «прощение». Теперь он переживает этот акт как «добро». Как веру взрослого в то, что, несмотря на его ошибку, он хороший, добрый, честный. Что своих ошибок он не повторит. Раньше малыш не видел для себя ничего привлекательного в том, чтобы быть помощником взрослого. Теперь он воспринимает свою новую позицию как доверие взрослых. Теперь близкий взрослый становится для ребенка воплощением добра. Но не тем абстрактным нравственным примером, которыми изобилуют книжки и нравоучения. Нет, он является человеком, добро которого малыш воспринимает всем своим существом. Ощущает на «теле своей жизни». А это значит, что и сам ребенок начинает относиться к себе как к доброму, честному, справедливому. Это значит, что у него возникает нравственная самооценка — мотив подлинной, бескорыстной морали.
Итак, дело не в том, что в воспитании вообще не должно быть наград и наказаний, а лишь в том, чтобы не’ ограничиваться этим методом, не считать его единственным. Доверие к ребенку, умение взрослого прощать малышу его большие и малые прегрешения, поручение детям посильных задач в труде и особенно в воспитании младших — не это ли есть истоки могучей реки морали, бескорыстия, доброты?
Первый шаг в альтруизм
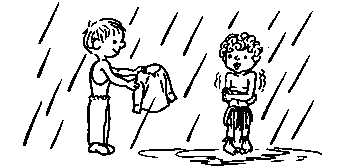
Представьте себе, что однажды, идя вечером по пустынной улице, вы нашли какую-нибудь ценную вещь, ну, допустим, бумажник; в нем деньги, документы. Какая мысль первой придет вам в голову? Ну конечно, отнести в бюро находок. Так вы и делаете: идете к справочному киоску, узнаете адрес бюро находок, едете туда, отдаете найденную вами вещь и облегченно вздыхаете. Вы чувствуете радость выполненного долга, и все же…
И все же все время с вами было едва уловимое чувство неудовольствия, как будто какой-то внутренний голос искушал вас: «Ну зачем тебе все это? Искать справочное бюро, стоять в очереди, тащиться на другой конец города в бюро находок… Чудак! Ну какая тебе от этого польза? Уж если ты такой честный, оставь бумажник на дороге, пусть его найдет кто-нибудь другой. Чего ты хочешь? Славы? Ты же не утопающего спас и не ребенка из огня вытащил; даже хозяин бумажника и тот о тебе не узнает». Но нет, вы не уступили коварному искушению. Значит, вы совершили альтруистический поступок: пошли на определенные жертвы, не получив взамен, казалось бы, ничего…
Так ли это? А чувство выполненного долга, радость от того, что сделали человеку приятное? Не это ли заставило вас отказаться от искушения? Значит, есть в человеке что-то, что побуждает его действовать не ради материальных благ или поощрения со стороны окружающих. Вот это что-то мы и назовем бескорыстной, или альтруистической, мотивацией.
«Но ведь это — капля в море,— скажет критично настроенный читатель.— Кто же, например, станет работать бесплатно, терять свое время, не получая взамен ничего? Нет, так поведение человека не объяснить, не здесь главное».
А разве главное это только то, что чаще всего встречается? Разве большинство людей могут любить, как Ромео, ревновать, как Отелло, ненавидеть, как Яго? Вряд ли мужество Овода можно считать массовым явлением. И все же, читая о них, разве мы не находим в себе немного от Ромео, от Овода и даже (будем мужественны!) от Отелло? Просто эти герои — маяки человеческих страстей, и сила их отнюдь не в массовости. Неважно даже, существуют ли подобные люди вообще. То же и альтруизм. Пусть он — «нетипичное» явление, пусть его немного в каждом из нас; все равно он остается критерием и мерилом человечного в человеке.
Веками философы, писатели, поэты вели спор о самой возможности альтруизма. «Анализ, измерение? Что вы! Разве можно измерить альтруизм!» — сказали бы нам с улыбкой еще полстолетия назад. Но не таков XX век с его постоянными сюрпризами в науке.
Представьте, что вы идете по залу большого универсального магазина. Навстречу вам человек, в руках у него множество пакетов. Вы уже собираетесь пройти мимо, как вдруг человек спотыкается… пакеты летят на пол. Как тут не помочь! Вы помогаете и не знаете, что это не более чем эксперимент. Такие опыты провела американская исследовательница Харрис. Оказалось, что не так уж много людей способны бескорыстно помочь другому в подобной ситуации. В еще одном опыте сотни горожан находили утерянные кем-то письма. Что сделает человек? Разорвет конверт или опустит в ящик, совершит бескорыстный поступок?
Но обратимся к детям. Как вы думаете, способен ли маленький человек на бескорыстный поступок? И если да, то в каком возрасте впервые возникает у него альтруистический мотив?
Воспользуемся уже известным нам методом «психологического рентгена». Для начала расскажем малышу историю следующего содержания: «Вова ходит в детский сад. Однажды в детский сад пришел человек, которого звали Иван Петрович, и попросил Вову вырезать флажок для праздника, а в награду предложил красивую марку. Иван Петрович сказал Вове:
— Ты можешь либо взять марку себе, либо опустить в эту коробочку. В дальнейшем все марки из коробочки будут наклеены на большой лист бумаги, а затем состоится выставка марок для всего детского сада,— и ушел.
Вова вырезал флажок и взял марку себе. Хорошо ли поступил Вова? Что бы ты сделал на его месте?»
Запишем ответы ребенка. А теперь, как этого и требует наш метод, поставим малыша в реальную ситуацию, описанную в рассказе: предложим вырезать ножницами нарисованный на бумаге флажок, а в награду дадим марку. Повторим то, что сказал взрослый герою нашего рассказа, выйдем за дверь и понаблюдаем за поведением малыша через экран. Важно только, чтобы коробочка, в которую ребенок мог бы при желании опустить свою награду, была с прорезью (наподобие копилки); так будет соблюдена полная «тайна вклада». Иначе мы не сможем понять, опустил ли ребенок из желания сделать доброе дело или из потребности показать, какой он хороший, и заслужить одобрение.
Давайте посмотрим, как ведут себя дети.
Экспериментатор рассказал Виталику (5 лет) историю про Вову, затем спросил:
— Виталик, хорошо Вова поступил или плохо?
— Плохо, потому что марку себе забрал.
— А ты бы как поступил с маркой?
— Я бы на выставку отдал.
Виталик остается один. Вырезает флажок, внимательно осматривает марку, затем открывает коробочку и заглядывает внутрь. Убедившись, что там уже есть марки (специально положенные экспериментатором), закрывает коробочку, берет марку и выходит из комнаты. По пути встречает экспериментатора:
— Виталик, ты себе марку взял или на выставку отдал?
— На выставку,— смущенно прячет марку в кулачок.
Пятилетний Игорь тоже обещает отдать марку на выставку. Оставшись один, вырезает флажок, некоторое время смотрит на марку, затем решительно опускает ее в коробочку. Уходит радостный, веселый.
Оказалось, на словах почти все дети в возрасте 4—7 лет отдают марку на выставку. Значит, они уже знают, что бескорыстно жертвовать своим достоянием ради общего блага хорошо, а быть эгоистом плохо. Но как далеки друг от друга слова и дела наших маленьких испытуемых! На деле большинство детей брали марки себе: одни — открыто, другие прятали в карманы, варежки, башмаки. Только некоторые из самых старших действительно отдали марки.
И все же такие дети есть! Пусть их немного, но раз они есть, значит, можно сделать так, чтобы их было больше. Это уже задача для нас, психологов.
«А не слишком ли трудное задание дали вы ребенку? — спросит, возможно, кто-нибудь из читателей.— Трудно отдать награду кому-то вообще. Вот если бы попросить его сделать добро для живого, реального человека».
Что же, давайте попробуем. Может быть, действительно дети легче будут проявлять альтруизм по отношению к какому-то конкретному лицу, чем к «людям вообще»? Для этого немного изменим содержание нашего «рентгена».
В углу комнаты положим привлекательные игрушки. Попросим двоих детей вырезать флажки и дадим им такую инструкцию: «Тот из вас, кто быстрее вырежет свои флажки, может пойти поиграть вот этими игрушками, а может помочь товарищу закончить работу, а потом поиграть вместе с ним». А чтобы дети не закончили работу одновременно (тогда опыт потеряет смысл), предложим им вырезать разное количество флажков: одному два, другому пять. Теперь уйдем и понаблюдаем за поведением малышей. Надо только не забыть предварительно рассказать им историю про Петю и Вову, которые очутились в той же ситуации, причем Петя закончил раньше и не помог товарищу, а сразу побежал играть.
И в самом деле, поведение детей резко изменилось. Те, кто в прошлом опыте не проявляли и следов альтруизма, теперь охотно помогают товарищам. Правда, и тут некоторые думают только о своих интересах, но их не так уж много.
Итак, наше предположение подтвердилось: ребенку действительно легче оказать помощь конкретному человеку, чем кому-то вообще. И все же, не осталось ли у вас чувства неудовлетворенности? Ведь мы только убедились, что у малышей могут быть альтруистические мотивы поведения, но не ответили на главный вопрос: как они формируются, откуда берутся?
«Может быть, дело в личном примере? — осторожно предполагает читатель.— Ведь если родители и другие взрослые постоянно показывают ребенку примеры альтруизма, он тоже будет поступать так, подражая старшим».
Возможно. Тем более что это предположение с большим «стажем»: еще в XVII в. его высказал знаменитый немецкий философ Иммануил Кант. «Ведь при самом обыкновенном наблюдении,— писал Кант,— обнаруживается, что если нам показывают честный поступок… без всякого намерения извлечь какую-нибудь выгоду… несмотря на величайшие испытания или соблазны, то он далеко превосходит и затмевает всякий аналогичный ему поступок, на который, хотя бы в малейшей степени, воздействовал посторонний мотив (личной выгоды.— Е. С.), поднимает дух и вызывает желание самому действовать так же. Даже подростки ощущают это влияние, и потому обязанности никогда не следует показывать им иначе».
Все же, как ни велик авторитет знаменитого философа, надо бы проверить этот тезис в эксперименте. Давайте вернемся к опытам Харрис. Когда выяснилось, что желающих помочь незадачливому покупателю не так уж много, Харрис несколько изменила условия опыта: до того как очередной покупатель успевал равнодушно пройти мимо взывающего к помощи, к последнему подбегал человек (ассистент экспериментатора) и начинал с готовностью помогать собирать пакеты. Действовал ли положительный пример на поведение прохожих?
Увы, сколько ни старались ассистенты, число альтруистов увеличить не удалось. Похоже, что взрослые не очень-то склонны подражать альтруистическому поведению ближнего.
А дети? Что если посмотреть, как поведут себя дети в подобной ситуации? Обратимся вновь к нашим экспериментам с флажками. Попросим ребенка просто посидеть в комнате, а задание вырезать флажок и распорядиться маркой предложим взрослому авторитетному человеку (воспитателю). Ну конечно, воспитатель оказывается на высоте: кладет марку в коробочку. А теперь снова поставим малыша в эту же ситуацию.
Но что это? Все дети по-прежнему забирают награду себе. И более того: самые смелые советуют сделать то же воспитателю («Зачем вам на эту выставку отдавать, возьмите лучше себе»). Да, с подражанием личному примеру у детей что-то не ладится. А могло ли быть иначе? Не слишком ли это было бы просто: посмотрел, и вот уже ты альтруист? Так мы бы сразу всех злых переделали в добрых, плохих в хороших… Нет, тут что-то не то; в природе чудес не бывает. Наверное, наблюдение альтруистичного поведения дает лишь представление о том, как следует поступать, но вовсе не формирует желание делать так же, не вызывает у ребенка альтруистических мотивов.
Вы спросите: как же их создать? А что, если… наш альтруизм не так уж и бескорыстен? Что, если добрый поступок мы совершаем лишь потому, что хотим «заплатить» человеку за совершенное нами зло и таким образом вернуть его хорошее отношение к нам? Абсурдно? И тем не менее подобное предположение существует.
И в самом деле, приходите вы, допустим, вечером домой, усталый, раздраженный: на работе неудачи. А жена просит в магазин сходить, холодильник в ремонт отвезти. Ну и отказываетесь сгоряча: дай отдохнуть, и так одни неприятности. Жена, конечно, обидится; а вам и отдых не в отдых, тревожит чувство, что вы поступили нехорошо. Вы беретесь за дело. И вот уже продукты на столе, холодильник в ремонте. Теперь вы чувствуете облегчение: ощущение вины перед близким человеком проходит да и неприятности по работе кажутся не такими страшными.
Видите, наше предположение не так уж и абсурдно. И даже заслуживает, чтобы его проверили в эксперименте. Представьте, что вас приглашают в комнату и дают какое-нибудь задание. Одновременно с вами то же задание выполняет другой человек. Только очень уж он любопытный: у стоящего рядом электронного прибора то одну, то другую ручку повернет. А теперь еще и вас отрывает от дела: просит прибор в сеть включить. Вы включаете и — о ужас! — вызываете катастрофу: треск и дым от сгорающих ламп и сопротивлений наполняет комнату. Тут, как назло, появляется экспериментатор, и вам приходится признаться в совершенном «преступлении». Правда, экспериментатор оказался тактичным, простил вас, но зато предложил участвовать в новом психологическом эксперименте: теперь вы будете решать задачи, а за ошибки вас будут бить слабым электрическим током. Слабый-то он слабый, но все же приятного мало. В другой раз вы ни за что бы не согласились, а тут неудобно: все-таки причинили человеку ущерб.
Вам, конечно же, невдомек, что любопытный испытуемый соблазнивший вас включить прибор, на самом деле ассистент экспериментатора. В вас сначала возбудили чувство вины, а потом предложили совершить альтруистический акт (участвовать в опыте с болевым наказанием). Такова была цель «хитрого» эксперимента американцев Уоллеса и Садалла. И действительно, оказалось, что испытуемые, «сломавшие» прибор, проявляли больший альтруизм, чем те, у которых чувство вины не возбуждали.
В опытах других американских психологов (Фридмэн и др.) чувство вины возбуждали по-другому: испытуемые, которые по заданному им в опыте условию не должны были ничего знать о предстоящей работе, «случайно» узнавали о ней все, однако скрывали свою осведомленность. По окончании эксперимента их просили принять участие в опытах с болевым наказанием (т. е. проявить определенный альтруизм). И снова гипотеза подтвердилась: среди этих испытуемых нашлось гораздо больше желающих вынести слабые удары током, чем среди тех, кто не был занят в первой части эксперимента; видимо, на душе у них было неспокойно. «А вдруг экспериментатор узнает, что я его обманул? Нет уж, лучше я соглашусь на неприятный опыт и «заплачу» за обман» — так, возможно, думал каждый из них.
В других, еще более остроумных опытах этих же ученых испытуемым, у которых было возбуждено чувство вины, предлагали бескорыстно помочь на выбор либо человеку, перед которым они провинились, либо совершенно постороннему лицу. Как вы думаете, кому они помогали охотнее?
«Конечно, тому, перед кем провинились»,— скажете вы. Совсем наоборот: «провинившиеся» испытуемые гораздо охотнее проявляли альтруизм по отношению к постороннему человеку, чем к тому, перед кем они чувствовали вину. Подтверждается житейская мудрость: мы любим человека за то добро, которое сделали ему сами; причиненное же человеку зло делает для нас неприятным дальнейший контакт с ним.
А что, если проверить данное предположение на детях? Тем более что сделать это не так уж сложно. Пригласим малыша, который в наших опытах упорно не желает отдавать марку на благо других и предложим ему поиграть какой-нибудь игрушкой, например электрическим луноходом. Нам, конечно, не составит большого труда сделать так, чтобы во время игры луноход «сломался». Ребенок растерян: ему кажется, что это он испортил игрушку. Но не будем жестокосердны: простим малышу это маленькое «прегрешение» и тут же предложим снова вырезать флажок и распорядиться маркой (взять себе или отдать на выставку).
Что произойдет? Конечно, можно думать и так: у ребенка возникнет чувство вины и малыш, чтобы избавиться от него, будет стремиться проявить альтруизм. Так полагают американские исследователи. Но ведь может произойти и другое. Тут ребенок не проста совершил нарушение — он еще и прощен взрослым. А ведь акт прощения — это акт доброты. Акт бескорыстия со стороны взрослого. Прощая, мы как бы говорим ребенку: «Да, ты совершил ошибку, но я все равно верю в тебя, в то, что ты хороший и добрый человек». Слов много, но в жизни они излишни. Каждый из нас и без слов понимает язык доброты.
А что, если у ребенка, испытавшего прощение, чуть-чуть изменится отношение к себе? «Если взрослый считает меня хорошим, значит, наверное, я и есть такой?» — так можно расшифровать чувства малыша. А раз так, возможно, у ребенка изменится самооценка? Появится подлинный, бескорыстный альтруистический мотив? Какая из гипотез верна? А может быть, верны обе? Одни дети будут восприимчивы к чувству вины, другие — к акту прощения? У одних возникает поведение, лишь внешне похожее на альтруизм, у других — подлинный альтруизм? Проведем опыт.
Ну вот мы и добились своего. Оказывается, теперь многие из бывших эгоистов охотно отдают марку на общее благо. Казалось бы, гипотеза подтверждается: альтруизм есть не что иное, как желание отплатить добром за причиненный ущерб.
И все же мы, чувствуем: что-то не так. Кто-то слишком уж ярко демонстрирует свой альтруизм, слишком громко кричит, выходя из комнаты: «Я марку в коробочку опустил!»; «Я на выставку отдал!». А ведь истинный альтруизм не нуждается в афишировании, подлинному благородству чужда реклама. Кто-то уходит молча, не обращая на взрослого внимания. Придется, наверное, поглубже проверить наших новоиспеченных альтруистов.
Давайте немного изменим наш опыт: пусть дети «ломают» игрушку, но мы перестанем замечать поломку и вновь предложим им испытание на альтруизм. Но что это? Дети, афишировавшие свой альтруизм, снова забирают марку себе. Те же, которые уходили, ничего не сказав взрослому, опять опускают ее в коробочку. Вот он и проявился: двойной эффект нашего воспитательного воздействия. На одних детей акт прощения проступка оказал возвышающее действие — у них возник подлинный, бескорыстный альтруистический мотив. У других этого не произошло. Они просто стремились отплатить взрослому за причиненный ущерб, восстановить хорошее мнение о себе. Опуская марку в коробочку, ребенок не забывал поставить об этом в известность взрослого. Когда же тот «не замечал» ущерба, прагматический альтруизм исчезал, подлинный оставался.
А теперь вспомним «хитрый» опыт Уоллеса и Садалла. Они тоже решили прозондировать подлинность альтруистических чувств у своих испытуемых: теперь, войдя в комнату, экспериментатор «не замечал» сломанного прибора, а просто предлагал участвовать в опытах с болевым наказанием. Оказалось, что никакого повышения альтруизма не наблюдается.
Вот теперь нам все ясно: иногда можно найти альтруизм там, где его на самом деле нет и в помине. Это просто желание отдать долг за причиненный ущерб; если же ущерб остается необнаруженным, платить долг никто не хочет. Какое уж тут бескорыстие! Просто поведение по принципу «ты — мне, я — тебе».
Теперь мы знаем, что есть альтруизм подлинный, бескорыстный, а есть мнимый, прагматический, и можем критически оценить разные теории альтруизма.
Ну что вы скажете, например, если вас будут убеждать в существовании альтруизма у… животных? Вам приведут примеры взаимопомощи и взаимозащиты, заботы о больных и раненых сородичах у обезьян, примеры «дружбы» у дельфинов, «самопожертвования» у муравьев. А крик предупреждения об опасности, который издают птицы при приближении врага? Разве это не альтруизм? Разве птица не обращает при этом внимание врага на себя, не жертвует собой ради спасения стаи?
Но это что! Вам сошлются на тщательно проведенные эксперименты с использованием всего арсенала научных средств. Вот, например, опыты американцев Эванса и Брауда. Представьте себе небольшой лабиринт в виде буквы Т, в каждом ответвлении которого стоит чашка со сладкой водой. Крыса, пущенная в лабиринт, устремляясь к лакомству, мечется то направо, то налево, пока не осушит обе чашки. А теперь в конце одного из ходов сделаем стеклянную клетку, поместим в нее другую крысу и будем бить слабым током зверька всякий раз, когда крыса-лакомка побежит в этот ход пить воду. Та, конечно, замечает страдания сородича: сначала пьет воду с аппетитом, а затем заглядывает сюда все реже и реже, явно предпочитая не причинять боль другому животному. Даже ценой отказа от лакомства.
А вот опыты американцев Массермана и Вечкина с обезьянами. Животное помещали в клетку с двумя лампочками и двумя цепочками. Обезьяна быстро усваивала: если загорится красная лампочка, тяни за левую цепь, получишь банан; загорится синяя лампочка, тяни за правую цепь, тоже полакомишься. Но вот в соседнюю клетку помещают другую обезьяну, получающую удар током всякий раз, когда первое животное тянет за правую цепь. Ну что за удовольствие от банана, если рядом твой сородич кричит от боли? Постепенно лакомка вообще перестала дергать за правую цепь и использовала только левую, не опасную для партнера. Итак, обезьяна скорее будет голодать, чем получать пищу за счет страданий сородича. Разве это не альтруизм?
И трудно было бы нам возразить, если бы наше «счастливое» заблуждение не привело нас к открытию мнимого альтруизма. Ну конечно, это он, наш старый знакомый. Ведь животное само испытывает неприятное чувство при виде страданий соплеменника, и это чувство — врожденное. Животному и приходится «откупаться» от него отказом от еды, так же как испытуемые Уоллеса и Садалла откупались от чувства вины согласием участвовать в опытах с болевым наказанием.
Однако мы опять увлеклись. Итак, использованный нами метод; возбуждения чувства вины и прощения… может воспитывать у ребенка как подлинный, так и мнимый альтруизм. А есть ли другие методы?
Вы, конечно, помните, как нам удалось сформировать у малышей моральные мотивы поведения, поставив детей в позицию проводников и контролеров моральных норм. А что, если воспользоваться тем же методом и на этот раз? Вновь «сыграть» на самооценке? Ведь желание повысить самооценку — бескорыстно, а только такой мотив и может лежать в основе формирования подлинного альтруизма.
Давайте предложим Андрею, проявившему эгоистичное поведение в опыте с задачей «себе или другим», присутствовать при выполнении того же задания другим ребенком. Дадим мальчику такую инструкцию: «Ты смотри, как Вова будет вырезать флажок. Если он захочет забрать марку себе, напомни ему, что это нехорошо; гораздо лучше и правильнее отдать марку на выставку. Но только не заставляй его силой, пусть делает, как хочет».
А теперь выйдем из комнаты и понаблюдаем за поведением малыша. Тот вырезает флажок, берет марку и идет к двери. Андрей останавливает его: «Если ты сюда положишь (указывает на коробку), то дети и родители будут смотреть и радоваться, а так только ты один».
Мальчик с сомнением смотрит на него и уходит с маркой. Так же неудачно окончилась попытка Андрея «воспитать» и другого ребенка. Теперь экспериментатор предлагает самому Андрею выполнить задание. Андрей вырезает флажок, берет марку, рассматривает, тянется с нею к коробке, затем кладет ее на стол и стоит в раздумье. Шепчет: «Я должен ее в коробку опустить». Опускает до половины в щель, держит, затем вынимает и кладет на коробку. Выходит из комнаты и спрашивает экспериментатора: «А я в коробку должен опустить или себе забрать?» — «Это ты сам должен решить».
Андрей идет в комнату, решительно кладет марку в коробку и молча уходит.
Как видно, и тут доверие к ребенку, передача ему функций руководителя и воспитателя благотворно влияет на формирование у него альтруистического поведения, причем подлинного, а не мнимого. Ведь ни один из тех, у кого мы сумели сформировать альтруистические мотивы поведения, не афишировал своего поступка. Правда, нам удалось достичь желаемого результата лишь у половины детей. Но абсолютного успеха и не следовало ожидать; ведь наше воздействие было сравнительно кратковременным.
А теперь попробуем сделать то же при воспитании у детей желания помочь партнеру. Попросим малышей, ранее отказавшихся оказать помощь товарищу, наблюдать за поведением других детей и напоминать им, что надо помогать друг другу.
И тут мы добились — теперь уже почти полного — успеха. И вот что интересно: и в первом, и во втором опыте наши испытуемые не только не видели со стороны других детей образца альтруистического поведения, но, наоборот, постоянно сталкивались с эгоизмом. Детям не удалось, например, склонить своих «подопечных» отдать марку на выставку; и все же теперь они совершили альтруистический акт. Не свидетельствует ли это еще раз о том, что пример как таковой мало влияет на поведение?
Но тут, наконец, наш критик не выдерживает: «Как же так? Неужели совсем все равно, встречает ли ребенок в жизни эгоистов или альтруистов, в хорошей он живет семье или в плохой?»
И в самом деле, нередко мы видим, что в семье, где родители и близкие взрослые проявляют по отношению к ребенку доброту и альтруизм, вырастают хорошие, добрые дети. И наоборот, если дети в семье или на улице постоянно сталкиваются с проявлением эгоизма, они часто вырастают эгоистами. И все же жизнь не так проста; бывают и противоположные случаи: растет ребенок в хорошей семье, удовлетворяются его желания, а в результате получается эгоист, да еще яркий, законченный, убежденный… Нет, тут без опыта, точного эксперимента опять не обойтись.
«Как же здесь можно построить эксперимент? — спросит читатель.— Не можем же мы искусственно «выращивать» детей в хороших или плохих семьях, как семена в пробирках?»
Не можем. Но мы можем упростить ситуацию. Давайте предложим двум детям вырезать из бумаги флажки, а за выполнение задания пообещаем награду: две красивые марки. «Тот из вас, кто первый вырежет свои флажки,— скажем мы им,— может распорядиться этими марками: или взять обе себе, или одну взять себе, а другую оставить товарищу». Но чтобы опыт удался, надо пойти на маленькую хитрость: одному ребенку дать меньше флажков, другому — больше. А теперь посмотрим, что будет.
Ну вот, так мы и думали: один закончил быстрее и вынужден теперь распорядиться марками. Видите, как он колеблется; наконец берет одну марку и уходит. Другой ребенок забирает обе марки. Ну разве не забавно: каждый стремится закончить побыстрее, победить, а когда наконец добивается права распорядиться марками, испытывает недовольство; в самом деле, взять одну марку — жалко вторую, взять две — покажешься жадным. Поневоле задумаешься,
так ли уж лучше иметь, чем не иметь. Но вот, наконец, все дети разделились примерно поровну: одни проявили альтруизм, оставили марку товарищу, другие — эгоизм.
А теперь приступим к главному: попросим ребенка, который в первом опыте играл пассивную роль, снова вырезать флажки вместе с другим партнером. Но теперь мы дадим ему меньше флажков: пусть получит право распорядиться маркой.
Вот и заработала наша модель; сейчас мы узнаем, будут ли дети, испытавшие на себе эгоизм сверстника, более эгоистичными в поведении, чем обычные испытуемые; и наоборот, проявят ли теперь «облагодетельствованные» партнером больший альтруизм.
«Но разве это бескорыстие, альтруизм? — слышу я вопрос.— Это просто поведение по принципу «добро за добро, зло за зло». Вы же сами говорили, что это ложный альтруизм».
Да, это было бы так, если бы ребенок в наших опытах «платил» тому же партнеру, от которого видел альтруизм или эгоизм. Но ведь в том-то и дело, что партнер другой. Тут уж никак не объяснить поведение малыша принципом «око за око». Ну в самом деле, если вам оказал услугу один, а отблагодарили вы другого — разве это не больше похоже на альтруизм, чем на благодарность?
Опыт показал вот что. Маленькие дети (4—5 лет), испытавшие на себе в первом опыте альтруизм или эгоизм сверстника, не изменили своего поведения: «облагодетельствованные» не стали добрее, а «обиженные» не ожесточились. А вот у старших (6—7 лет) было по-иному: испытавшие альтруизм стали значительно добрее, чем те, кто видел по отношению к себе эгоизм.
«Ну уж если малыш отзывается на доброту сверстника, то к доброте взрослого он будет еще чувствительнее»,— скажете вы.
Вероятно, но все же проверим. Сделаем так, чтобы дети, зарекомендовавшие себя эгоистами, испытали альтруизм взрослого, а альтруисты испытали эгоизм. (Надо только не забыть потом объяснить «обиженным» малышам, что это был опыт, и отдать заслуженную награду.)
Да, тут вы оказались правы: дети, испытавшие на себе доброту взрослого, в большинстве проявили альтруизм по отношению к другому незнакомому взрослому; те же, кто были «обижены», не стали от этого хуже.
Итак, делаем окончательный вывод: доброта, альтруизм, проявленные к ребенку другим человеком, положительно влияют на поведение старших дошкольников, делают их более альтруистичными. Испытанное же ребенком зло (эгоизм партнера) большого воздействия не оказывает. Как видно, добро сильнее зла.
Ясно нам и другое: ребенок, который воспитывается среди хороших, альтруистичных людей, скорее вырастет альтруистом, чем ребенок, живущий среди эгоистов.
«Что же получается? — вновь слышу я голос читателя.— Сначала мы никак не могли «раскопать» корней альтруизма, а теперь сразу три корня нашли? Как же надо воспитывать альтруизм у ребенка: прощать его проступки, доверять ему роль воспитателя или просто самим проявлять к нему доброту и альтруизм?»
Наверное, и первое, и второе, и третье. Ведь во всех этих методах, как мы уже видели, воплощен бескорыстный стиль общения. А он и формирует у ребенка нравственную самооценку — основу как подлинной морали, так и подлинного альтруизма.
Подлинного ли? Ведь удовольствие от того, что ты совершил добрый, благородный поступок,— тоже своего рода корысть! Да, но такая, в которой польза индивида и польза общества слиты воедино. А это совсем иное, чем корысть, в обычном смысле слова, когда то, что является благом для индивида, приносит вред обществу или, по крайней мере, бесполезно для него. Последняя рождается вместе с ребенком, первая же — результат (и вершина) духовного развития.
А теперь вернемся к таким вопросам: «Почему в хороших семьях бывают плохие дети? Почему среди альтруистов иногда вырастают эгоисты?»
Снова встает проблема: доброта или требовательность? Бескорыстное общение или прагматическое? И опять мы приходим к выводу: слово «или» тут не на месте. Теоретически, конечно, можно и нужно противопоставлять, разделять корысть и бескорыстие, метод наказаний и метод доброты. Практика же воспитания не терпит абсолютов и крайностей. И все-таки иногда они проникают в реальную жизнь. Если общение с ребенком построено лишь по принципу «ты — мне, я — тебе», вряд ли мы можем надеяться воспитать альтруиста.
А если оно целиком построено на бескорыстии? Не получается ли так: малыш «тонет» в доброте, «купается» в альтруизме мамы и папы, бабушки и дедушки, но сам-то никогда не выполняет роли защитника альтруистических норм, не берет на себя ответственности, не находит мужества постоять за добро. А зачем такому вообще быть добрым? Достаточно того, что к нему проявляют доброту, не требуя ничего взамен. Да и понять, почувствовать добро как «добро» он не в состоянии: ведь с отношением к себе окружающих, основанном на принципе взаимных требований, наказаний и поощрений, он в жизни не сталкивался. Правда, наступает время, когда ребенку приходится войти в сферу новых отношений между людьми: отношений со сверстниками, учителями… Вот тут-то мы и разводим руками от удивления, начинаем спрашивать сами себя: откуда у ребенка эгоизм?
И снова мы пришли к выводу: не только «потребление» добра, но и его «производство», ощущение ответственности за доброе в мире — не это ли есть главный корень формирования альтруизма?
Но ведь ответственность — это трудно! Так что ж? Добро не дается даром, люди не рождаются альтруистами. И лучшее, что мы можем,— это помочь ребенку дерзнуть на такой труд, сделать первый шаг в альтруизм.
Цена независимости
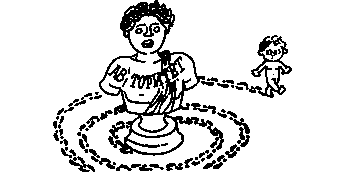
У входа в одно солидное учреждение мне нередко приходится наблюдать любопытную сценку. Вход этот, как и у всякого представительного учреждения, состоит из множества дверей-близнецов — догадайся, какая открыта? Ленточка входящих тянется мимо ближайшей, прикрытой, но отомкнутой двери и входит в дальнюю; люди толпятся у вертушки, ждут своей очереди, теряют время. Стоит, однако, какому-то смельчаку войти в ближайшую дверь, как все немедленно сворачивают за ним.
В чем тут дело? А просто в том, что у нас нет уверенности, открыта ли ближайшая дверь. «Сделать шаг в сторону, потерять несколько секунд да еще наткнуться на закрытые двери? Нет уж, увольте» — так, наверное, рассуждают люди. Иными словами, тут надо пойти на определенный риск, не имея уверенности в успехе. Как ни странно, на это решаются немногие.
Казалось бы, не стоит говорить о таких мелочах. Но мало ли нам известно случаев, когда в экстремальных ситуациях именно эта способность пойти на разумный риск, не поддаться всеобщей панике или всеобщей неосторожности, иначе говоря, сохранить личную независимость спасала человеку жизнь? Недаром это качество ценилось в людях со времен глубокой древности. Разве не оно помогло древнегреческому герою Одиссею спасти свой корабль от неминуемой гибели, когда он, возвращаясь в родную Итаку после Троянской войны, подошел к незнакомому острову? Давайте на минутку раскроем Гомера:
Денно и нощно шесть суток носясь по водам, на седьмые
Прибыли мы к многовратному граду в стране лестригонов Ламосу…
В славную пристань вошли мы: ее образуют утесы,
Круто с обеих сторон поднимаясь и сдвинувшись подле
Устья великими друг против друга из темныя бездны
Моря торчащими камнями, вход и исход заграждая.
Люди мои, с кораблями в просторную пристань проникнув,
Их утвердили в ее глубине и связали, у берега тесным
Рядом поставив: там волн никогда ни великих, ни малых
Нет, там равниною гладкою лоно морское сияет.
Я же свай черный корабль поместил в отдаленье от прочих,
Около устья, канатом его привязав под утесом.
Конечно, поместив свой корабль в спокойной бухте вместе со всеми, Одиссей бы не рисковал, что он будет опрокинут внезапно налетевшим с моря шквалом или разбит о скалу. Но Одиссей поступил так, как подсказывали ему его опыт и осторожность. На острове жили великаны, которые, увидев в бухте корабли, потопили их, бросая огромные камни; спасся лишь Одиссей.
А творчество? Разве любой творческий акт в науке, искусстве, производстве, жизни возможен без независимости? Создание нового всегда есть противопоставление старому, устоявшемуся, привычному, освященному авторитетами. И вот ведь какая штука: никогда нет уверенности, что прав именно ты, новатор, а не всеми признанное лицо. А если ты ошибся? Потеряны время, силы, репутация, может быть, вся жизнь. Кроме самого себя тебе винить некого. Куда легче идти протоптанным путем, скрываясь за спинами авторитетов. Леонардо да Винчи, Достоевский, Эйнштейн — разве их творчество не есть высшее проявление независимости и вместе с тем риска?
«Нельзя же все время быть оригинальным»,— скажете вы. Ну разумеется. Можно и должно использовать то, что создали до нас (и для нас) другие; незачем «изобретать велосипед». Но не кажется ли вам, что есть предел, преступив который, человек перестает быть личностью, теряет индивидуальность?
Итак, способность быть самим собой — можно ли ее измерить? Представьте, что вас приглашают в комнату, вместе с другими людьми выстраивают в ряд, дают в руки фотографию, затем просят указать, кто из трех изображенных на экране людей напоминает вам снимок, который вы держите.
Вы всматриваетесь в лица на экране… Ну конечно, вон тот, крайний справа, только на несколько лет моложе. Но что это? Вся группа один за другим уверенно указывает на изображение слева. «Не может быть, совсем непохоже,— с волнением думаете вы.— Хотя не могут же они все ошибаться… Если только нос немного похож да линия подбородка та же…» Такие мысли проносятся у вас в голове, пока подходит ваша очередь. Нет, все-таки вы указали на человека справа. И правильно сделали! Ведь экспериментатор втайне от вас попросил остальных участников опыта ошибиться. Интересовало же его только одно: сможете ли вы устоять против давления группы?
Примерно так построил эксперимент американский психолог Соломон Аш (вместо фотографий испытуемые оценивали линии по длине). Оказалось, что около 70% людей проявили независимость и дали правильные суждения; остальные поддались на «провокацию», оказались конформистами.
Опыты эти имели большой успех в научном мире. Их повторяли в разных видах и в разных странах, в том числе и у нас, и они в целом подтвердили результаты Аша. Некоторые зарубежные ученые даже сделали вывод, что якобы уже наследственностью, генами предопределено, будет ли человек независимым или конформистом, сможет ли он создавать что-то новое или обречен, как тень, идти по следам других.
Но вернемся к детям. Помните, как увлекательно описывает Корней Чуковский в книге «От двух до пяти» период усвоения ребенком речи? Малыш еще не освоил всех сложностей родного языка, но уже уверенно поправляет взрослого. А попробуйте неверно пересказать хорошо известную малышу сказку! Тут же натолкнетесь на возражение.
В дневнике В. С. Мухиной 3-летний Кирилл задает вопрос: «Где покупается наша кроватка?» Выслушав ответ: «В игрушечном магазине»,— ребенок не соглашается: «Неправда, ты ошиблась, кроватка — это мебель!» Услышав сказку, в которой Машенька подходит к речке и речка разговаривает с ней, Андрюша (3 г.) прерывает чтение: «Так не бывает! Это понарошку. Мы когда жили в деревне, там была речка. Она не разговаривала. Она только текла, журчала и в ней рыбки плавали. Речки не говорят».
А нельзя ли предположить, что именно там, в детстве, начинает формироваться независимость? И не влияет ли независимость малыша на его дальнейшую судьбу: станет ли он творцом или конформистом, яркой личностью или ординарным человеком?
Предложим ребенку простое задание. Поставим перед ним тарелку, чашку и маленький кубик; такие же предметы возьмем себе. Попросим его класть кубик в чашку всякий раз, когда мы положим свой кубик в тарелку, и наоборот. Очень скоро дошкольник научится «шутя» выполнять такое задание. Затем попросим другого взрослого выполнять это задание вместе с ребенком, отвечая на подаваемые нами сигналы. Но сначала втайне от малыша договоримся со взрослым: пусть чередует правильные действия с неверными.
Итак, начинаем. Пока взрослый действует правильно, малыш уверенно выполняет программу. Но вот вы кладете кубик в тарелку; взрослый же, вместо того чтобы положить его в чашку, копирует ваше действие. Ребенок, еще ничего не подозревая, подносит кубик к чашке, но, увидев ошибочное действие взрослого партнера, останавливается; на лице беспокойство, неуверенность. Несколько раз ребенок переносит кубик от чашки к тарелке, не зная, как поступить.
Ясно, что малыш колеблется: совершить ли правильное действие, но противопоставить себя взрослому (не может же тетя ошибаться), или последовать за взрослым, но нарушить программу. Тут-то и выясняется, сформировалось ли у ребенка независимое поведение, слепо ли он идет за авторитетом, или относится к нему критически. Посмотрим, как ведут себя некоторые дети.
Рома (5 лет) наедине с экспериментатором прекрасно справляется с заданием. Затем ребенка просят выполнить его одновременно со взрослым. Первые два действия взрослый совершает правильно. Рома тоже. На третий раз взрослый «ошибается». Рома сначала поступает верно, затем, взглянув на партнера, смущенно перекладывает предметы; однако, подумав, вновь придает кубику правильное положение. Следующее действие оба выполняют верно, затем взрослый опять «ошибается». Рома смотрит и не притрагивается к кубику. Очень смущен. Тихо говорит экспериментатору:
— А я не знаю, как поставить.
— А разве я не учил тебя?
Рома смотрит на взрослого и с недоумением говорит:
— Забыл, как делать.
Теперь в эксперименте участвует 5-летний Дима. Первые два действия выполняются правильно. Затем следует «ошибка» взрослого, но Дима кладет кубик в нужное место и улыбается с видом превосходства. Взрослый опять допускает «ошибку». Мальчик выполняет задание правильно, но на сей раз не улыбается и шепчет: «В тарелочку». Когда партнер «ошибается» в третий раз, Дима шепчет: «Надо в чашку»,— но в то же время копирует неправильное действие взрослого (кладет кубик в тарелку). После четвертой «ошибки» взрослого на лице ребенка недоумение, он повторяет за партнером ошибку и шепчет: «Можно и так». В дальнейшем Дима копирует все действия взрослого.
Лена (4 г.) — очень развитой ребенок. Программу она усваивает «с ходу». Вместе со взрослым партнером первые три действия выполняет верно. На взрослого она не глядит: уверена, что тот все делает правильно. В четвертый раз, выполнив действие, девочка случайно взглядывает на партнера, восклицает: «Ой!» — и быстро копирует его ошибку. Следующее действие взрослый вновь выполняет неверно; Лена поступает правильно, но, заметив «ошибку» партнера, вновь издает восклицание, вынимает кубик из чашки и держит в руке. На лице ребенка растерянность. Девочка начинает плакать и отказывается от опыта.
Мы видели: вначале дети были уверены, что кто-кто, а взрослые не ошибаются. Мальчиков не смущает и первая ошибка взрослого, а Рома даже бравирует: вот, мол, я сделал правильно, а он ошибся. Постепенно, однако, уверенность их покидает; на смену приходят тревога, смущение, и дети начинают подражать партнеру. Особенно тяжело переживает эту ситуацию Лена. Еще бы: взрослый, нерушимая опора, непогрешимый образец,— и вдруг ошибается. Нелегко выдержать такое; спасают слезы.
Опыты показали, что большинство 3-летних малышей копируют все ошибочные действия взрослого партнера. Старшие (5—б лет) проявляют независимость значительно чаще; но и среди них половина детей подражает неправильным действиям взрослого.
Почему так происходит? Ведь эти же дети прекрасно выполняют задание без партнера, а в присутствии взрослого подражают ему во всем. Но дадим слово им самим:
— Игорь, когда мы вместе играли, ты правильно делал или нет?
— Нет.
— А почему?
— Потому что вы в чашечку положили, и Людмила Константиновна (партнер) в чашечку, и я в чашечку.
— А Людмила Константиновна правильно делала или нет?
— Нет.
— А зачем же ты повторял ошибки?
— Я не знал…
— Юра, а ты почему неправильно делал?
— Забыл… Потому что Татьяна Сергеевна так делала…
— А разве обязательно так делать, как Татьяна Сергеевна?
— Нет.
— А зачем же ты так делал?
— Захотел.
Оказывается, дети сами не понимают, почему они подражали неправильным действиям партнера, зная, что делают неверно.
В чем же причина? Может быть, дети копируют ошибки только тогда, когда являются реальными участниками событий? А что если попросить детей не выполнять задание одновременно со взрослым партнером, а просто контролировать его действия, говорить, правильно или неверно он делает? Неужели реакция детей будет та же?
Помните, в предшествующих главах мы выяснили: обсуждать поступки людей (из телепередач, фильмов) — одно, а самим вести себя в реальной жизни так, как бы нам хотелось,— другое? В жизни мы нередко повторяем ошибки героев фильмов, которые осуждали, сидя в зрительном зале. Давайте совершим обратную операцию: превратим наших детей из участников событий в зрителей; разыграем перед ними спектакль и обсудим то, что происходит на сцене.
Сделать это нетрудно. Заберем у ребенка игрушки; попросим взрослого партнера выполнять задание, а малыша — следить за его действиями и говорить, правильно или неправильно он делает…
И в самом деле, мы не ошиблись. Большинство детей, ранее повторявших все неверные действия партнера, теперь отыгрались за свое поражение: не пропустили ни одной ошибки.
Так поступает большинство… Постойте… но что это? Что происходит с Артемом? Вот взрослый делает первую ошибку. Артем смотрит и говорит: «Правильно». Взрослый снова ошибается, и опять ребенок одобряет его. Снова и снова все повторяется. Что же, мальчик не видит, что взрослый ошибается? Да нет, ребенок смотрит внимательно. И все же признает все ошибки правильными действиями. То же происходит с Ильей и еще некоторыми детьми.
Это кажется чудом, но малыши не замечают ошибок взрослого. Не видят их, хотя следят за тем, что он делает, очень пристально.
Подобно героям сказки Андерсена, упорно не желавшим видеть наготы короля, наши дети не видят ошибок взрослого. Правда, тут есть существенная разница: герои сказки притворялись, не желая показаться глупцами, а наши малыши чистосердечны. Дети действительно не видят ошибок взрослого, как будто на глазах у них очки, которые, подобно волшебной палочке, превращающей камни в золото, обращают ошибочные действия в правильные.
И хотя такие «очки» носят около трети детей в возрасте 3—4 лет, все же наше предположение подтвердилось: контролировать взрослого со стороны оказалось значительно легче, чем проявлять независимость в ходе реального выполнения задания; судить со стороны не так трудно, как быть участником событий; созерцать проще, чем действовать, наблюдать жизнь легче, чем жить.
Но вернемся к вопросу «Почему дети копируют ошибки взрослого?». Спрашивать об этом у них бесполезно, мы уже убедились. Попробуем разобраться сами. В чем причина подражания, как вы думаете?
«В авторитете? — предполагает догадливый читатель.— Замените взрослого сверстником, и подражание исчезнет».
Заменили. И в самом деле, теперь почти все дети проявляют независимость, более того, исправляют действия сверстника, спорят с ним.
Да, значение авторитета поистине велико! Оказывается, для малыша важно не действие само по себе, а то, кто его совершает.
«Как же так,— спросит читатель,— ведь и сверстник и взрослый делают одни и те же ошибки? Сверстнику-то ребенок не подражает, а взрослого копирует. Почему? Неужели он не видит ошибок взрослого?»
Все дело в том, что понимать под словом «видит». Видеть-то он, может, и видит, понимать — понимает, но в глубине души все равно считает взрослого правым. Ведь он — образец, авторитет. Зато со сверстниками можно не очень-то считаться.
Не так ли и мы иногда: читаем книгу известного писателя, удивляемся глубине какого-нибудь высказывания и вдруг ловим себя на мысли: «Где-то я уже это слышал… Ах да, недавно то же говорил мой приятель!» Но почему же тогда эта мысль не показалась нам глубокой, интересной, правильной? Наоборот, мы спорили, доказывали обратное. Не потому ли, что мы очень любим и уважаем этого писателя, а приятеля воспринимаем как равного? По-разному относимся к ним. Вот и любимому мы можем простить грехи, а у неприятного нам человека найти недостатки даже там, где их нет.
Давайте посмотрим, как влияет авторитет на суждения детей о правильности действий партнера. Попросим тех, кто не заметил ошибок взрослого, контролировать действия сверстников.
Ну разве не удивительно? Почти все дети, даже самые маленькие, фиксируют ошибки товарищей. Те же ошибки, которые многие из них не замечали у взрослых. Кажется, что у малышей спали с глаз волшебные очки: теперь они не принимают ошибки за правильные действия. Видят голого короля таким, каков он в действительности.
«И все же уточним,— слышу я голос воображаемого собеседника.— Почему ребенок подражает взрослому? Потому ли, что действительно верит в его правоту и непогрешимость, либо просто потому, что боится испортить с ним отношения? Ведь сделать по-иному — значит не «послушаться» взрослого, фактически возразить ему. Обвинить его в несостоятельности. А на это решатся немногие».
Ну что ж, проверим. Закроем взрослого партнера большим непрозрачным экраном. Теперь взрослый не видит ребенка, а в поле зрения малыша лишь его руки. Если малыш копировал взрослого из страха вызвать его неодобрение, то сейчас может вести себя независимо — ведь партнер не видит его… Если же ребенок действительно считает взрослого правым, то по-прежнему будет копировать его ошибки. Результаты показали: ни один из детей-подражателей в этих условиях не проявил независимого поведения. Вывод очевиден: ребенок подражает потому, что действительно относится к взрослому как к непогрешимому образцу. Вера эта столь сильна, что изменяет и восприятие малыша, все действия взрослого кажутся ему правильными.
А теперь обратим внимание на детей, сумевших проявить независимость. Зададим себе те же вопросы: в чем причина подобного поведения? В том ли, что ребенок стремится угодить экспериментатору? Или в том, что он хочет поддержать свою нравственную самооценку? Ведь малыш обещал экспериментатору выполнять программу именно так: нарушить ее означает и нарушить данное слово, отказаться от своего обещания.
Повторим наш экспериментальный прием. Но на этот раз за экраном не партнер ребенка, а сам экспериментатор. Он видит через прорезь экрана только руки ребенка. Итак, внешний контроль со стороны экспериментатора снят. Малыш лишен моральной поддержки экспериментатора. Не грозит ему и молчаливое «наказание» со стороны того же экспериментатора (хотя бы в виде укора в глазах). Теперь ребенок наедине с партнером. И все же дети не подражают взрослому. Не подражают, хотя это им теперь и не выгодно. Значит, независимость детей не вызвана внешним контролем. Это не просто выполнение программы, но и акт нравственности, стремление сдержать слово, хотя бы и ценой противоречия взрослому. И притом стремление вполне бескорыстное: ведь даже на мысленное одобрение со стороны экспериментатора ребенку рассчитывать не приходится.
Итак, мы выяснили: к старшему дошкольному возрасту у большинства детей появляется независимое поведение. Сначала оно возникает по отношению к сверстникам, затем — по отношению к взрослым. И еще: вначале дети начинают проявлять независимость на словах, т. е. во время контроля со стороны, а потом и на деле — в ходе реальных действий.
На основании этого мы можем сделать два важных вывода. Во-первых, независимое поведение — не врожденное свойство личности. Оно формируется начиная с первых лет жизни ребенка. Во-вторых, для формирования независимого поведения надо устранить отношение ребенка к взрослому как к непререкаемому авторитету, как к человеку, который не способен ошибаться.
«Но позвольте,— снова вмешивается скептик,— авторитет взрослого — залог воспитания. Как же можно его разрушать?»
Это было бы верно, если бы… авторитет взрослого и авторитет общества совпадали. Но так ли это?
Действительно, пока ребенок мал, близкие ему взрослые — мать, отец, родственники — воплощают в себе общество, являются как бы его представителями. Но к 4—5 г. ребенок уже многое знает, умеет, понимает. Он видит, что некоторые поступки взрослых (чаще всего за пределами семьи) не соответствуют общепринятым нормам. Вот тут-то и нужны ему критичность, независимость. Не будь их, ребенок с одинаковой легкостью усваивал бы и хорошее и дурное, подражал нужному и ненужному; и хороший и плохой человек пользовались бы у него одинаково непререкаемым авторитетом. К счастью, это не так, и даже дошкольник может уже отличить подлинного «представителя общественных норм» от взрослого «только по названию».
Но вернемся к вопросу о том, как формируется независимость. Вы, возможно, сталкивались с трудным периодом в развитии ребенка — так называемым «кризисом трехлетнего возраста»? Послушный, спокойный ребенок, с радостью выполнявший наши поручения, вдруг меняется; и вот на его месте — упрямый, своевольный маленький диктатор. Мы хотим его одеть — он вырывает шапку или пальто, пытаясь натянуть их самостоятельно; помогаем построить домик из кубиков и слышим резкое: «Я сам!» Настоящий маленький зазнайка! Наверное, так оно и есть. Ведь к 3 г. силы и умения ребенка резко возрастают, маленький гордец чувствует это и требует автономии. «Надоела мне ваша мелочная опека, дайте хоть чуть-чуть пожить самостоятельно»,— как бы говорит он.
«Стоп! — догадывается читатель.— Вы говорите про самостоятельность, а речь-то шла о независимости?» Совершенно верно. Отступление в область развития автономности нам для того и понадобилось, чтобы не спутать ее с независимостью. Независимость развивается по-другому.
Представьте себе, что вы овладеваете какой-то профессией или видом искусства, например учитесь рисовать. Вначале разрыв между вами и учителем очень велик: начинающий и мастер. Попробуй прояви тут критичность, независимость; ведь чтобы критиковать работу мастера, надо обладать своим собственным личным опытом. А его как раз и не хватает. Да и не очень-то мастер считается с нашим мнением.
Но допустим, вы оказались способным учеником, упорно трудились и (о радость!) сами стали мастером. Но что это? Работы учителя — ранее верх совершенства — вдруг потускнели в ваших глазах. И там и тут вы замечаете недостатки, погрешности, ошибки; лишь настоящий талант устоит перед критичностью молодых.
Разве не то же происходит и с ребенком? Посмотрите на 2-лет-него малыша! Насколько мы, взрослые, превосходим его во всем! Не кажемся ли мы ему этакими добрыми кудесниками, творящими все вокруг по мановению волшебной палочки? Для нас нет невозможного. Увы, как это ни утомительно, но приходится играть роль волшебника в ее наиболее скучном варианте: рассказывать, показывать, руководить без конца. Ну хоть бы одно возражение для разнообразия! (Капризы в счет не идут.)
Год, два, три… Стоп! Наконец-то можно сбросить мантию, отложить волшебную палочку и вздохнуть с облегчением. Конечно, мы и теперь немножко волшебники, но зато появилось много видов деятельности, где мы выступаем с малышом «на равных»: ролевая игра, труд, совместное конструирование, беседа. Вот тут-то ребенок и видит, что взрослый — не волшебник, а человек с его маленькими слабостями и способностью ошибаться; ореол непогрешимости, сиявший вокруг нас, постепенно гаснет. Иными словами, малыш все чаще, пусть на короткое время, выполняет роль учителя и контролера, ранее монопольно принадлежавшую взрослым. А это и приводит к тому, что отношение к взрослому как к непогрешимому образцу постепенно заменяется более критичным отношением.
«Помилуйте, зачем же так долго ждать! — опять восклицает скептик.— Раз уж вы хотите иметь не послушное орудие своей воли, а критика, объясните ему, что вы не безгрешны, что можете ошибаться, и делу конец!»
А что? Давайте попробуем! Возьмем две группы детей-подражателей и попытаемся по-разному воспитать у них независимость. Одним мы будем объяснять, что взрослый партнер делает неправильно, кладет кубик не туда, куда надо, и т. п. Добьемся того, чтобы они могли замечать все ошибки партнера.
А теперь снова испытаем детей «на независимость». И что же? Оказывается, малыши по-прежнему продолжают копировать ошибки взрослого. Что-то наши разъяснения не очень на них подействовали. Правда, некоторые из детей начинают колебаться и уже не так уверенно подражают взрослому; иные даже возмущаются тем, что взрослый делает неправильно, говорят: «Надо не так, это неправильно», но все же пересилить себя не могут и продолжают копировать ошибочные действия партнера.
В чем же дело? Почему воздействие на сознание ребенка не может изменить его поведение?
Нам уже известно: для того чтобы соблюдать моральные нормы, недостаточно только знать их. Надо еще и хотеть их выполнять, иметь моральные мотивы; без этого знание морального кодекса нам не поможет. То же и с независимостью: недостаточно знать, что делаешь неправильно, надо еще и хотеть делать правильно. А вот этого-то желания мы у детей и не сформировали.
Теперь ясно: мы пошли по ложному пути. Но зато уточнили нашу задачу: не сражаться с ветряными мельницами словесного знания, а воспитывать у детей потребность вести себя независимо, критично. Как это сделать? Как разрушить слепую веру ребенка в непогрешимость взрослого?
Раз убеждение не помогает, надо придумать какой-то другой способ… А что, если… дать ребенку роль, в которой бы он чувствовал себя равным или даже в чем-то превосходящим взрослого партнера? Ведь мы предположили ранее, что именно эта роль помогает ребенку освободиться от отношения к взрослому как к непогрешимому образцу.
Попросим детей второй группы не просто контролировать «неумеющего» взрослого, но и учить его выполнять программу, поставим их в позицию учителей и контролеров.
Посмотрите, как охотно дети берутся за роль, с какой гордостью и удовольствием учат взрослого выполнять задание. А теперь испытаем их «на независимость»… Нет, еще рановато, малыши копируют ошибки партнера… Но смотрите, они колеблются, подражают неуверенно. Не будем замечать их ошибок, а попросим поправить взрослого: пусть дети почувствуют себя вне критики… Видите, как заметно прибавилось у детей смелости, уверенности в себе? Снова испытаем их «на независимость»…
Но что это? Малыши не копируют взрослого, они делают все наоборот. Кажется, независимость сформирована… Но нет! Сходство с независимостью только внешнее. Ведь это то же подражание, только с обратным знаком — подражание наоборот. Подлинная независимость — это когда человек делает так, как ему подсказывает его собственный опыт. Наши же дети все еще ориентируются на взрослого, хотя и проявляют негативизм. Продолжим нашу работу…
Опять испытаем детей… Вот теперь сомнений нет — независимость сформирована. Но как изменились маленькие испытуемые! Куда делись робость, стеснение, страх? Куда исчезли колебания, сомнения? Откуда взялись эта уверенность, достоинство в поведении? Посмотрите, как выполняет задание 3-летний Дима, еще вчера копировавший все ошибочные действия взрослого партнера.
Вот партнер (воспитатель) делает «ошибку». Дима обходит стол, подбегает к воспитателю и исправляет положение его кубика; возвращается на свое место и сам выполняет действие. Теперь партнер действует верно; Дима начеку, внимательно следит за ним. Убедившись, что кубик положен правильно, кивает головой и сам выполняет задание. Взрослый опять ошибается. Дима, заметив это, кричит: «Не так!» — подбегает и исправляет, затем правильно кладет свой кубик. И вновь партнер делает не так, как надо. Дима кричит: «И еще не так!» Подходит к воспитателю, исправляет положение кубика: «Надо вот как». Затем сам выполняет действие.
Мы подтвердили нашу гипотезу и заодно стали свидетелями интересного психологического явления: там, где дело касается изменения чувств, переживаний и личных отношений между людьми, убеждение словом помогает редко. Вспомним рассказ Василия Шукшина «Сердце матери». Сын преступил закон. Мать знает об этом, понимает, но… не считает сына виноватым («По пьянке он, трезвый-то мухи не обидит»). И никакие объяснения не впрок. «Материнское сердце — оно мудрое, но там, где замаячила беда родному дитю, мать не способна воспринимать посторонний разум, и логика тут ни при чем».
Как же мы ответим нашему скептику? Наверное, так: не убеждать детей быть критичными, независимыми (лучше вообще поменьше убеждать), а просто почаще давать им возможность брать на себя роль руководителя, воспитателя, лидера, почаще действовать с ними на равных. А впрочем, если хотите, словесные убеждения не повредят; в худшем случае окажутся бесполезными.
«А как же быть с подражателями? — могут спросить меня.— Вы доказали, что независимость формируется, возникает. Она продукт определенного стиля общения с ребенком, бескорыстного общения на равных. А подражательность? Она откуда?»
Вероятно, она тоже возникает. Она тоже результат, продукт общения ребенка со взрослыми. Но общения иного стиля. Общения авторитарного, общения сверху вниз. Общения, не терпящего возражений. Это — гипотеза. Как ее проверить?
Возьмем две группы детей: А и Б. Протестируем их «на независимость». А теперь сделаем так: попросим одного из взрослых обучать детей группы А выполнению какой-нибудь сложной программы. При этом взрослый должен вести себя авторитарно: говорить строгим голосом, упрекать детей за ошибки, наказывать непослушных и т. д. Но вот позади три недели «мучений» — дети группы А овладели новой программой. Дети группы Б тоже овладели ею, но без «мучений» — их спокойно и быстро научил экспериментатор. А теперь вновь проверим детей обеих групп на предмет независимости поведения. Только в качестве выполняемой программы будет служить не знакомая нам программа «кубик — тарелка — чашка», а усвоенная детьми новая программа. Партнером же будет взрослый, обучавший детей группы А. И что же? Дети, испытавшие на себе авторитарный стиль общения, почти все превратились в подражателей. Дети группы Б сохранили свою независимость.
Изменим ракурс опыта. Попросим двух взрослых А и Б общаться с одной и той же группой детей. Но по-разному. Взрослый А приходит через день и обучает детей лепке, рисованию, аппликации… Ведет себя авторитарно: требует беспрекословного подчинения, повышает голос, наказывает, не терпит возражений. В промежуточные дни приходит взрослый Б. Он спрашивает детей, чему их научил взрослый А, и просит обучить его тому же. Конечно, наши маленькие испытуемые охотно соглашаются: почему бы не поучить взрослого, да еще такого покладистого? Разговаривает он робко, улыбается добро, а чтобы прикрикнул или наказал — нельзя даже вообразить! Конечно, мы не забыли у каждого из детей по нашей методике измерить «степень независимости». Подождем три месяца. А теперь протестируем детей снова: в одном из опытов партнером детей будет взрослый А, в другом — взрослый Б. Каков же результат? Конечно, вы догадались. По отношению к авторитарному взрослому независимость детей 3—б лет резко упала, возросла подражательность. По отношению к доброму партнеру (взрослый Б) независимость возросла.
Теперь нам ясно: как подражательность, так и независимость — результаты воспитания. Точнее — стиля общения с ребенком. Авторитарный стиль формирует подражательность; бескорыстное общение на равных — независимость. В реальном общении, как правило, сочетаются оба стиля. Важны пропорции. Когда ребенок мал, неизбежно преобладает авторитарный стиль: ведь взрослый все — абсолютно все — должен показывать ребенку, руководить им. Но вот к 2—3 г. малыш уже многое знает, умеет. Постепенно начинает проявляться эффект бескорыстного общения. Ребенок все больше полагается на свои силы. Глобальная подражательность уступает место независимости.
Итак, малыш становится независимым. Хорошо это или плохо? Судите сами. Жизнь — дело нелегкое. Нельзя все время идти по следам других. Рано или поздно ребенок должен будет встретиться с жизнью лицом к лицу и начать самостоятельно принимать решения. Быть может, даже идти наперекор традициям. А это трудно, очень трудно. И если такая тяжесть ляжет внезапно, неизвестно, выдержат ли хрупкие плечи маленького человека.
Рождение — это отделение ребенка от матери, первый шаг в самостоятельную жизнь. Мы знаем, как драматичен этот акт. С какой осторожностью и неторопливостью надо вводить малыша в новый мир.
Становление независимости — еще один шаг на пути рождения личности. Рвется еще одна ниточка, связывающая малыша со взрослыми, ниточка не телесная, а духовная. Это неизбежно: ведь ребенок должен будет пойти дальше нас. Но чем медленнее будет совершаться этот процесс, тем меньше будет элемент страдания.
Какова же цена независимости? Ребенок платит за нее первыми тревогами, неуверенностью — неизбежными спутниками самостоятельного плавания вдали от родных берегов. Приобретает же он несравненно больше — умение не прятаться за чужую спину, смело шагать в неизведанное, брать ответственность на себя. А мы, взрослые, платим за нее расставанием со своим непререкаемым, абсолютным авторитетом «доброго волшебника». Но это не страшно. А может быть, и хорошо. Не будет ли умение вовремя и без сожаления расстаться с таким авторитетом залогом будущего истинного уважения к нам наших детей?
Новое рождение
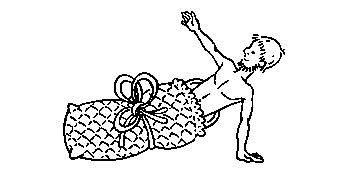
«Трудный возраст», «опасный возраст», «трудный подросток» — эти слова давно перешагнули за пределы специальных изданий и прочно поселились на страницах популярных книг, газет и журналов. Ученые разных специальностей — юристы, психологи, педагоги — обсуждают «уроки» опасного возраста; по этой теме работают лаборатории, защищаются диссертации, пишутся книги. Не так уж часто научная проблема получает столь широкое социальное звучание.
Как известно, симптомы трудного возраста разнообразны: тут и случаи грубости, негативизма, «балдежи» в подъездах и даже правонарушения. Вы скажете: и все же большинству подростков удается спокойно миновать бурный пролив опасного возраста. Но почему мы всегда интересуемся причиной лишь нетипичных случаев, отклонений? С таким же успехом мы можем спросить: почему у большинства детей нет отклонений? Не являются ли и спокойный, и «бурный» подростковые периоды лишь разными ветвями одного дерева? Растут же на одном стебле благоухающая роза и колючие шипы?
Попробуем разобраться. Прежде всего попытаемся понять, почему в одних случаях «механизм» личности подростка работает нормально, а в других разлаживается?
Наверное, вам приходилось видеть, а может быть, и участвовать в шутливых соревнованиях «бег со связанными ногами»? Успеха добиваются те партнеры, которые умеют тонко учитывать движения друг друга, иначе говоря, работают в такт. Стоит одному из них выйти из режима, забыть про того, кто рядом, сосредоточиться на себе, и вся система расстраивается.
Попробуем представить себе личность ребенка в виде такой системы с двумя партнерами. Один — отношение ребенка к себе, оценка им своих знаний, умений, способностей. Второй — общественная оценка этих же знаний, умений и способностей. Разберемся с каждым в отдельности.
Давайте немного понаблюдаем за ходом нашего общения с ребенком. Что бы мы ни делали: читаем ли ему книжку, отвечаем на вопросы, играем или помогаем решать задачи — всегда и везде мы
оцениваем возможности ребенка и соответственно строим свое поведение. Именно поэтому мы не станем обсуждать содержание «Евгения Онегина» с 3-летним сыном, а дочке-пятикласснице объяснять устройство елочной игрушки. От этой оценки (а также оценки воспитателей, врачей, педагогов — всех, с кем вступает в контакт наш ребенок) зависят наши требования к нему. Исполнилось ребенку 7 лет, нет у него серьезных отклонений в развитии — иди, пожалуйста, в школу, поднимайся еще на одну ступеньку «лестницы детства».
Но ведь то, как мы, взрослые, оцениваем способности ребенка,— лишь одна сторона медали. Другой, не менее важной, является то, как он сам себя оценивает.
Как-то у меня состоялся такой разговор с сыном (2 г. 6 мес.). Алеша, сидя на руках, заявляет:
— Я большой, а не маленький, нет.
— Ну, а домик ты построишь из кубиков?
— Да.
— А на качели сам залезешь?
— Залезу.
— А меня на ручки возьмешь?
Задумывается…
— Нет.
— Почему?
— Ты слишком тяжелый.
А вот как оценивает себя один из подростков:
«Как и все мои ровесники, я увлекаюсь современной музыкой. Только, в отличие от многих, знаю не восемь-десять названий дисков, а восемьдесят — сто. Но при этом учусь нормально. Мне верят ребята, знают, что я не побоялся вступиться за девушку, которую избивали пятеро. Не побоялся сказать завучу, что он не прав. Меня можно увидеть в подъезде, когда я не совсем трезв, с девушкой, которой почти двадцать лет. Увидев меня там, вы взрослые, сразу решите, что я — «балдежник». А вы прочли всего Толстого, Чехова, Достоевского, Бальзака в пятнадцать лет? А я прочел. А вы можете выпить бутылку без отрыва? А я могу. А вы имеете патенты на изобретения или опубликованные статьи по теории литературы? А я имею. Надо уметь совмещать все».
Конечно, оценка ребенком своих возможностей не всегда правильна, адекватна. Дошкольник, например, чаще всего завышает свои возможности: нет такого дела, за которое бы он не взялся. Даже подросток не всегда различает «хотеть» и «мочь». Можем ли мы, однако, не считаться с этим неверным представлением ребенка о себе, не учитывать его в воспитании?
Представьте себе, например, что ваш знакомый провалился на экзаменах в институт, который по-вашему не соответствует его склонностям. С точки зрения общественного блага да и с вашей собственной, от этого больше пользы, чем вреда: не будет мучиться с неинтересной и ненужной ему профессией. Вряд ли, однако, вы станете утешать вашего друга «со своей точки зрения». Скорее вы поможете ему устроиться на работу или подготовиться к экзаменам в следующем году. Ведь его собственное представление о своих склонностях для него важнее, чем ваше. А всегда ли мы так же тактичны по отношению к ребенку, которому не удалось выдержать «экзамен на взрослость»?
Но вернемся к нашей гипотезе. Итак, личность ребенка развивается спокойно тогда, когда четко и слаженно работают два психологических партнера — самооценка ребенка и общественная оценка его способностей. Стоит одному партнеру бросить другого, отстать или рвануться вперед, и система разлаживается, возникает психологический кризис.
Помните «кризис трехлетнего возраста», когда малыш протестует против мелочной опеки взрослых, требует самостоятельности, становится своевольным? Не напоминает ли это негативизм, «независимость» и упрямство подростка?
Советские психологи Д. Б. Эльконин и Т. В. Драгунова исследовали развитие личности подростков-пятиклассников. Они обнаружили, что в подростковом возрасте формируется особый вид самооценки — так называемое чувство взрослости. Проявляется оно по-разному. Одни подростки начинают активно участвовать в жизни семьи, помогать взрослым, у других возникает повышенный интерес к технике, науке или искусству, третьи увлекаются романтическими отношениями со сверстниками другого пола. Есть и такие, которые не идут дальше подражания внешнему облику, одежде и манере поведения взрослых.
Главное же заключается в том, что подросток хочет и требует, чтобы окружающие относились к нему не как к маленькому, а как к взрослому. Если эти требования не выполняются, он выражает протест. Тут-то и расцветает букет симптомов «трудного возраста» — негативизм, грубость, упрямство, противопоставление себя взрослым и т. д.
Подросток не только требует признания своей взрослости; он стремится оградить некоторые сферы своей жизни от вмешательства старших. Например, отказывается от помощи в приготовлении уроков, протестует, когда препятствуют его увлечению музыкой, танцами, романтическими отношениями. Наконец, у детей появляются собственная линия поведения, свои взгляды, оценки и желание их отстаивать.
В трилогии Л. Н. Толстого «Детство, отрочество, юность» есть интересный эпизод. Герой повести — подросток, возмущенный грубостью гувернера, дает ему пощечину. Вот как отзываются о поступке Николеньки современные пятиклассники:
«Он обиделся правильно и имеет право на самозащиту… Пожалуй, на месте Николеньки я поступил бы так же, как он»; «Своего гувернера хлопнул! Правильно! Только надо было поаккуратнее!.. Можно было бы и поспокойнее!.. У него ненависть появилась к гувернеру; он подумал, что не перенесет того, что тот его ударит… Некоторых учителей, как, например, учителя русского языка, каждый мальчишка терпеть не может. Из-за мелочей ставит двойки, вопросами засыпает. Потом очень груб в обращении: хватает, швыряет. Это ужасно. Был бы я, как мой брат, попробовал бы он меня схватить… Он бы у меня (замахивается)»; «Парень хороший, сразу видно. Этому дал? Дал. Только мало дал. Правильно сделал, что дал».
Вспомните, как в одной из предшествующих глав мы столкнулись с проблемой «может», но не «хочет»: здесь мы видим обратное: «хочет», но не «может». Хочет быть взрослым, но не может им быть. Как разрешить это противоречие, как укротить зарвавшегося «психологического партнера» — самооценку подростка? Конечно, можно разъяснить ребенку, что он зарвался, что до настоящей взрослости еще далеко; но мы уже имели возможность убедиться: разъяснения неэффективны там, где дело касается личности. Не лучше ли пойти на компромисс: чуть-чуть завысить нашу оценку и за счет этого уменьшить разрыв? К такому выводу приходят авторы упомянутого исследования (Д. Б. Эльконин, Т. В. Драгунова): нужно так строить воспитательную работу, чтобы она включала «…постоянное изменение отношения взрослых к подросткам как к все более и более взрослым».
А пока наши «партнеры» выясняют отношения, обратимся еще раз к уже известному исследованию Маргарет Мид. Среди собранных ею фактов самым удивительным, наверное, был тот, что ей не удалось обнаружить на Самоа признаков «трудного возраста». Бескризисное детство — так можно было определить детство жителей этих островов.
В чем же причина такого благополучия? Рассмотрим поближе жизнь самоан того времени. Представьте тропический остров, очень похожий на те, что описаны в рассказах Лондона, Стивенсона, Моэма. Нет ни заводов, ни фабрик, ни библиотек. Рыбная ловля, выращивание злаков и плодов — вот и все «производство». Исполнилось тебе 4 г.— получай должность «няни», следи за маленьким братом или сестрой. Да заодно помогай ловить рыбу на рифах, срывать кокосовые орехи, готовить еду, выполняй различные поручения. Тесно живется? Что делать. Семья большая (10—15 человек), а комната в хижине одна. Тут и взрослые и дети: вся жизнь на виду. Дальше — больше, и вот к 10—12 г. ты уже почти взрослый; правда, ты ловишь меньше рыбы, добываешь меньше орехов, чем отец, но работа ведь та же. Кем ты будешь? Разве не ясно? Тем же, кем был и отец, дед, прадед… Надо лишь пройти инициацию — специальный обряд «посвящения во взрослые».
«Все ясно,— догадывается читатель.— На Самоа подросток не только хочет быть взрослым, но и может, фактически является таковым. Его труд — не развлечение, а источник жизненных средств». Совершенно верно. А возможно ли это у нас, в условиях развитого промышленного производства? Представьте: подросток за хирургическим столом, у ядерного реактора, за штурвалом реактивного самолета!
Итак, «трудный возраст» есть возраст начала рождения новой зрелой личности. И тут, конечно, совсем не обязательно присутствие «повивальной бабки» — инициации. Кстати, ученые доказали, что инициации есть лишь у тех народов, у которых в раннем детстве мальчик слишком сильно привязывается к матери: спит с ней в одной постели, не отходит от нее ни на шаг. Не затем ли и нужны столь суровые меры, чтобы превратить «маменькиного сынка» в мужчину? К счастью, в цивилизованных странах инициаций нет, а это значит, что надо искать иные методы решения проблем подросткового возраста.
Так можно ли избежать психологических издержек «нового рождения»? Исследования и педагогический опыт показывают, что да. Д. Б. Эльконин и Т. В. Драгунова выяснили: в тех семьях, где родители уважают «чувство взрослости» подростка, где между детьми и родителями настоящая дружба, редко бывают трудные дети. Это не значит, конечно, что при таком воспитании нет трудностей и противоречий. Противоречия неизбежны, они не вредят развитию личности, а наоборот, составляют самую его суть. В огромном большинстве случаев наш ребенок не хочет быть похожим на нас не потому, что мы «плохие», а потому, что мы «такие». Он хочет быть собой, а значит — другим. Важно лишь, чтобы естественное желание быть другим произвело созидательную, а не разрушительную работу, чтобы ребенок стал лучше, а не хуже, чем его родители. Собственно, в том чтобы сделать противоречие конструктивным, и состоит задача воспитания.
Как это сделать? Прежде всего — понять. Принять противоречивость, конфликтность развития как должное. Осознать, что в наших детях продолжается лишь часть нашей личности, другая же часть должна умереть. И выбор этот делаем не мы, а подросток. А если мы недовольны? Что ж, мы можем предложить сыну или дочери другой вариант. Это непросто. Для этого нужно измениться самим. Иначе подросток не поймет, ни примет наш вариант развития. Значит, воспитание — процесс обоюдный. Не только мы воспитываем подростка, но и он — нас. В этой готовности родителей к личному росту, к самоизменению — залог продуктивности воспитания подростка. Залог того, что противоречие между ребенком и взрослыми будет конструктивным.
Но как взрослому человеку «изменить себя»? Как вызвать подростка на диалог? Увы, рецептов, годных для всех, пока не существует. Ответ на этот вопрос будет одновременно и новой ступенью развития самой науки о личности ребенка.
* * *
Человек рождается один раз. Это знают все. А сколько раз рождается личность?
Мы попытались увидеть личность даже в новорожденном. Но как же непохож младенец на дошкольника, дошкольник на подростка. Неужели это одна и та же личность? То и дело возникают новые мотивы поведения, старые уходят на второй план; усложняются переживания; делается богаче и разнообразнее эмоциональная сфера. Все очень быстро меняется и, наконец, запутывается в один сложный и плотный клубок. Трудно найти в нем ариаднину нить.
И все же не будем отчаиваться. Все четче и яснее проступают перед нами первые этапы развития личности. Ребенок родился. Потребности его просты: есть, пить, выделять. Находиться в тепле. Общаться со взрослыми, впитывать новые впечатления. Пока еще нет основных, фундаментальных компонентов личности. Не может быть и речи о морали, альтруизме, независимости. Но уже идет грандиозная работа психологической подготовки. Ребенок усваивает речь, ритмику и формы движений, действия с предметами. У него развиваются восприятие, мышление. Возникает произвольное поведение.
Жизнь ребенка как бы раздваивается. С одной стороны, он по-прежнему продолжает жить и действовать в непосредственном контакте с миром людей и предметов. С другой — переходит в новый, знаково-символический план жизни и поведения. Это план речи, речевого мышления, фантазии, изобразительной деятельности, игры. Ребенок уже не только живет, но и рассуждает о жизни, думает о ней, рисует ее. Отразившись в сознании малыша, окружающий мир получает как бы второе существование — в форме гипотез, рассуждений, фантазий, рисунков, игр… В этом новом, знаково-символическом плане ребенок может осуществить многое — гораздо больше, чем в плане реальной жизни. Мысль, речь способны в одно мгновение перенести его в Африку, забросить на Луну или опустить в центр Земли; на словах можно с одинаковой легкостью и без всякого риска совершать доброе и злое, хорошее и дурное.
На этом знаково-символическом уровне ребенок и встречается впервые с нравственной сферой. Получает начальные представления о добре и зле. О должном и недолжном. Возможном и запретном. Знакомится с миром нравственных отношений. Персонажи сказок, книг, мультфильмов говорят ребенку о нем. Сначала представления малыша о добре и зле как бы слиты с самими персонажами: добро — это Красная Шапочка, зло и коварство — Серый Волк. Постепенно представления отделяются от конкретных персонажей, превращаясь в самостоятельные. Теперь малыш обладает «нравственной шкалой», с помощью которой можно оценивать и «измерять» поступки других, осознавать их как добрые или злые. В этой знаково-символической форме ребенок впервые усваивает и нравственные нормы: что надо делать, чтобы быть добрым, честным, справедливым…
Итак, наступает второй этап развития личности ребенка. Этап, на котором он начинает овладевать основами нравственности. Постигает ценность объективности, независимости, альтруизма. Но — лишь на знаково-символическом уровне. На уровне словесных знаний, суждений, оценок. На уровне же реального действия ребенок еще не в состоянии выполнять эти нормы. На словах он уже объективен, независим, морален, альтруистичен, на деле часто пристрастен, подражателен, эгоистичен. Поведение ребенка как бы разрывается: «стрелка» словесного, вербального поведения смотрит на юг, «стрелка» реального поведения — на север. Почему усвоенные на словах нормы не изменяют поведения малыша? Ответ мы уже знаем: у ребенка пока отсутствуют мотивы, которые бы склоняли его к подчинению норме.
Но вот наступает третий — самый сложный и интересный — этап. Ребенок входит в зону действия внешнего контроля со стороны сверстников и взрослых. Теперь ему приходится изменить свое реальное поведение, подчинить его нормам. Повернуть его «стрелку» с севера на юг. Возникает момент, когда словесное и реальное поведение совпадают, соединившись под сенью общего «указателя» — нравственных норм. Гармония слова и дела почти восстановлена.
Но опыт, эксперимент говорит нам: поворот «стрелки» реального поведения — явление непростое. За ним стоят два разных психологических процесса. Два типа мотивации. Один тип — прагматические нравственные мотивы. Мотивы, вызванные к жизни внешним контролем. Мотивы, основанные на страхе наказания или на стремлении к поощрению. Но есть и другие мотивы: мотивы, взращенные бескорыстным общением близких взрослых, их добротой. Ощущая ее на себе, оценивая сквозь сеть нравственных представлений, ребенок изменяет свое отношение к самому себе. Возникает нравственная самооценка. Появляются зачатки новых, бескорыстных, «внутренних» мотивов поведения. Ребенок переходит от подчинения лишь внешнему контролю к подчинению самому себе, своей совести. Так возникают основы бескорыстной нравственности, творческой независимости, альтруизма.
Проходит время. Дошкольник становится школьником. Младший школьник — подростком. Он поднимается еще на одну ступеньку равенства со взрослыми. Теперь расстояние между ними не так уж велико. Надо постичь всю сложность человеческих отношений, расстаться с детским «черно-белым» восприятием мира. Труден этот шаг.
Сколько же раз рождается личность? Один, два, три? А может быть, больше? Может быть, мы просто не разглядели в клубке еще многих и многих узелков?
Веками незнакомый «материк» человеческой личности осваивали первопроходцы: художники, писатели, поэты. Но вот и наука делает первые шаги. Все ближе и ближе подбирается она к драгоценной нити, которая, хочется верить, поведет ее к новым увлекательным открытиям.
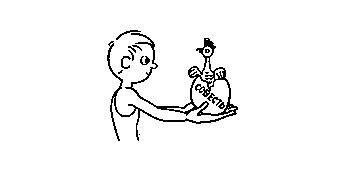
РЕБЕНОК ОБЪЯСНЯЕТ МИР
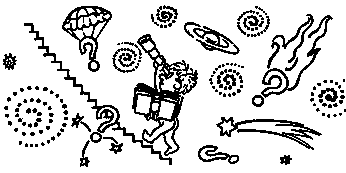
Отличительная особенность человеческого разума — стремление объяснить мир. Свести сложное и непонятное к простому и ясному. Загадочное к хорошо известному. Пронзить лучом мысли темноту непознанного, высветив тайные нити, связывающие стихию природных явлений с тем, что человек умеет и знает.
Еще древние пытались объяснить многообразие мира как комбинацию четырех стихий — земли, воды, воздуха и огня, или как сочетание однородных «шариков» — атомов. В современной физике представления о структуре материи усложнились, но потребность в объяснении осталась та же: из каких общих «протоэлементов» возникает пестрый мир элементарных частиц? Можно ли рассматривать все известные физике явления как варианты относительно небольшого числа законов? Не менее интенсивно растут попытки объяснить все возрастающее число загадочных природных явлений и в других областях науки о природе и обществе.
Но объективный мир — мир природы и общества — далеко не исчерпывает того, что подлежит объяснению. Существует и другой мир — мир субъективных психических явлений. Мир человеческой мысли, фантазии, сновидений. Мир, полный загадочного и непонятного. Объяснить его еще сложнее. Ведь явления природы — это то, что существует «для всех», может быть познано совместными усилиями людей. Субъективные же явления — это внутренний мир отдельного человека. Это «экран», недоступный взору другого. Не всегда человек может произвольно вызвать психическое явление. Бывает, что образ, мысль, чувство ускользают от него. И вдруг появляются в самый неожиданный момент и в самом причудливом сочетании. Нелегко понять законы этого мира. Да и законы эти не совсем похожи на законы естественных наук.
Итак, два мира опыта: объективный и субъективный. Два крохотных освещенных пятна в бесконечной темноте непознанного. Но в масштабе отдельной человеческой жизни зона уже познанного, объясненного очень велика. Это мир знаний и культуры. Мир, который появившемуся на свет ребенку еще только предстоит познать. С первых же дней, недель, месяцев жизни малыша взрослый вводит его в этот мир. Малыш слышит звуки человеческой речи. Видит контуры окружающих вещей. Его рука вступает в контакт со сделанными человеком предметами. Иными словами, ребенок с первых дней жизни попадает в своеобразный и все расширяющийся «канал обучения», или «канал передачи опыта». Сначала этот канал мелок и узок. Он вмещает в себя лишь то, чему может научить малыша взрослый без помощи слов. Постепенно канал расширяется. Уже в детском саду ребенок попадает в русло систематического обучения, которое достигает апогея в школе и вузе. «Канал передачи опыта», систематическое обучение — и есть тот основной путь, на котором дети овладевают достижениями культуры. Приобретают умение постигать и объяснять объективный и субъективный мир. Этот путь — от простого к сложному. Вначале ребенок пишет буквы, затем слова и предложения. Вначале надо усвоить арифметику, затем можно перейти к исчислению бесконечно малых величин. Вот так — со ступеньки на ступеньку, все выше и выше — ведет взрослый ребенка по «каналу обучения». Пока, превратившись во взрослого, бывший питомец не достигнет той грани, за которой кончается область познанного, куда человек должен пробиваться уже без помощи мудрых наставников, только сам.
Но есть и другой путь познания, объяснения мира. Путь, противоположный первому. Это путь от сложного к простому. Мир не ждет, пока ребенок, ведомый за руку по ступенькам «канала обучения», постепенно познает его. Нет, с первых дней жизни малыша он обрушивается на ребенка в таком многообразии, которое значительно превышает имеющиеся у того возможности объяснения. «Бомбардируемый» массой сложных явлений, традиционное, «взрослое» понимание которых ребенку еще не доступно, он вынужден так или иначе по-своему систематизировать, организовывать и объяснять их. Объяснять на основе того совсем еще небольшого запаса знаний, который уже получил. Конечно, не все явления природы и психики становятся достоянием сознания малыша. Многие он просто не замечает. Но все же число этих явлений значительно превосходит число тех, что на данном этапе развития ребенка заполняют «канал передачи опыта». Пытаясь справиться с этим «паводком» проблем, малыш обращается к взрослому. Не отсюда ли бесконечные детские «почему»? Но — не по вине взрослых — многие из этих «почему» остаются без ответа. Ведь чтобы объяснить 4-летнему малышу, «почему дует ветер», «почему трава зеленая», надо опереться на знания, которых у ребенка еще нет. И тогда малыш сам отвечает на свои вопросы. Конечно, эти ответы не похожи на объяснения взрослых и когда-нибудь покажутся ребенку смешными. Но сейчас они необходимы ему. Необходимы, чтобы «гармонизировать» данные личного опыта, хоть капельку уменьшить «напряженность непонимания».
Как же отвечает ребенок на вопросы, пока еще недоступные его пониманию? По каким признакам отличает он явления природы от явлений субъективных, психических? Как понимает соотношение между мозгом и психикой? Где проводит грань между истиной и иллюзией, между знанием несомненным и знанием проблематичным? Попытке ответить на данные вопросы и посвящена эта часть нашей книги.
Живые предметы
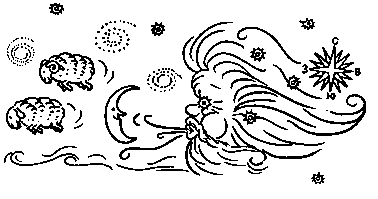
«Алисе наскучило сидеть с сестрой без дела на берегу реки; разок-другой она заглянула в книжку, которую читала сестра, но там не было ни картинок, ни разговоров…Вдруг мимо пробежал белый кролик с красными глазами.Конечно, ничего удивительного в этом не было. Правда, Кролик на бегу говорил:— Ах, боже мой, боже мой! Я опаздываю.Но и это не показалось Алисе особенно странным. (Вспоминая об этом позже, она подумала, что ей следовало бы удивиться, однако в тот миг все показалось ей вполне естественным.) Но когда Кролик вдруг вынул часы из жилетного кармана, и взглянув на них, помчался дальше, Алиса вскочила на ноги. Ее тут осенило: ведь никогда раньше она не видела кролика с часами, да еще с жилетным карманом впридачу!»
Читателю, конечно же, прекрасно известно, что произошло дальше с очаровательной маленькой Алисой из сказки Льюиса Кэрролла, сколько удивительного и необычайного увидела она в волшебной стране чудес. И немудрено удивиться, встретив на берегу обычной реки говорящего кролика, умеющего пользоваться часами. Но ведь в сказках бывает и не такое. Говорят, думают, действуют как люди не только животные, растения, насекомые, но и камни, реки, горы. Мир сказок, фантазии полон живых предметов, удивительных свойств, волшебных превращений.
Совсем иное дело — настоящий, серьезный мир, в который возвращаешься, когда прочитана последняя страница или окончен мультфильм. Тут уже не может быть никаких чудес — лебедь не превратится в царевну, у реки и дерева не попросишь укрыть тебя от опасности. В этом серьезном мире возможное и невозможное разделены непроходимой гранью. Можно сделать многое, но нельзя ожидать, чтобы неживой предмет вдруг превратился в живой, наделенный сознанием и способностью понимать и выполнять просьбы человека. Собственно, в этом и состоят два «запрета», отделяющие обычный мир от сказочного: невозможность превращения неживого в живое и невозможность повлиять на неживой (и даже живой, но не обладающий человеческой психикой) объект посредством одного лишь «акта мысли» — просьбой, уговором. Для того чтобы сделать что-то реальное, нужны орудия, время и силы. А в сказке достаточно волшебной палочки.
Почему же искусственный мир, созданный взрослыми для детей, мир сказок, фантазий, игр не подчиняется «запретам» реального мира? Почему он полон живых предметов, животных, одаренных человеческой речью и мыслью? Для чего, почему создали взрослые этот удивительный мир?
Может быть, потому, что так легче и проще объяснить ребенку целый ряд сложных явлений, научная природа которых ему еще недоступна? Вспомним, как легко и элементарно в сказочном мире решается мучающий малыша вопрос «Откуда берутся дети?». А может быть, потому, что и сам ребенок, пытаясь объяснить эти явления, придает им волшебные свойства, оживляет их; наделяет по аналогии с самим собой человеческими способностями? Не является ли оживление мира, неумение отделить живое от неживого, физическое от психического, естественное от сверхъестественного первым и неизбежным этапом развития детской мысли? Этапом, к которому взрослые пытаются лишь приспособиться? Который они используют, создавая для ребенка волшебную сказку и игру?
Эта мысль не покажется нам неправдоподобной, если мы, несколько забегая вперед, бросим взгляд на историю культуры и человеческого мышления. Многочисленные исследования обычаев и традиций племен, находящихся на ранних этапах социально-экономического развития, раскрыли удивительные особенности их мировосприятия. Важнейшая особенность мышления архаичного человека как раз и состоит в том, что мир объективный, мир природы, и мир субъективных, психических явлений не разделены тут непроходимой гранью. В отличие от современного европейца архаичный человек одухотворяет природу. Наделяет неживые предметы способностью понимать и выполнять просьбы и желания человека. Буквально все вокруг — деревья, ручьи, трава, дороги и камни на дорогах, животные и птицы — является вместилищем духов и демонов. А раз так, значит, можно магически влиять на природу. Можно уговаривать ее. Посредством особых ритуалов и заклинаний подчинять воле и желаниям человека.
«Индейцы Британской Колумбии,— пишет английский ученый Дж. Дж. Фрэзер,— питаются в основном рыбой… Если рыба не приходит в нужное время, шаман племени нутка делает чучело рыбы и опускает его в воду в направлении, откуда обычно приходит рыба. Этот обряд, сопровождаемый молитвой, призван побудить рыбу незамедлительно появиться… Когда лаосский охотник на слонов уходит на промысел, он предупреждает свою жену, чтобы в его отсутствие та не стригла волосы и не умащивала тело маслом, ибо в первом случае слон разорвет сети, а во втором — проскользнет через них». Подобная магическая практика пронизывает всю жизнь архаичных племен. Лечение болезней, роды, посев семян и сбор урожая, явления природы сопровождаются особыми ритуалами, призванными повлиять на духов вещей, вызвать у них понимание и симпатию. Подобное же одухотворение мира, неспособность четко разграничивать физическое и психическое, естественное и сверхъестественное было характерно и для предков современных европейских народов. Но об этом мы еще будем говорить специально.
Итак, мы видим: освобождение природы от свойства одушевленности, отделение друг от друга мира физических и мира психических явлений — результат длительной и сложной эволюции. Итог многовекового экономического и культурного развития. Но ведь то, что произошло в истории развития человеческого рода, может в миниатюре повториться и в истории развития ребенка. Нельзя ли предположить, что сознание современного ребенка в своем формировании проходит через аналогичные этапы? От слитности и нерасчлененности к возникновению четкой грани между ними?
Если это так, то ребенок, объясняя мир, неизбежно наделяет неживые предметы духовностью и способностью понимания. Эту особенность человеческого мышления в психологии назвали анимизмом (пер. с лат.— от слова «душа»).
Впервые экспериментально доказать наличие анимизма в мышлении ребенка попытался швейцарский психолог Жан Пиаже, имя которого уже не раз встречалось на этих страницах.
Пытаясь выяснить это, Пиаже ставил перед детьми вопросы о причинах разнообразных физических явлений, о явлениях природы и космоса. Идея была проста. Ясно, что знаний о подлинных причинах этих явлений у малыша быть не может. А раз готовых знаний у ребенка нет, тут-то и проявятся особенности второго, стихийного пути освоения им общественного опыта. Проступят контуры спонтанного и творческого объяснения мира. Тут обнаружится, каким образом встраивает ребенок в свою картину мира явления, которым еще не в состоянии дать правильное, научное объяснение.
«Откуда приходит ветер? Как он начинается?» — спрашивал Пиаже. И обнаружил удивительный факт. Оказывается, дети 4—5 лет нередко считают ветер, любое движение воздуха результатом человеческого дыхания. Дыхание же, в свою очередь, они тесно связывают со словом и мыслью. В результате в сознании ребенка мысль (психическое явление) и ветер (физическое явление) образуют одно неразделимое целое (ветер — это мысль, а мысль — ветер). «Почему движутся на небе тучи и небесные тела?» И опять большинство детей 5—9 лет дают необычные ответы. Для одних детей туча (Луна, Солнце) движутся, потому что мы заставляем их двигаться, когда идем, а они подчиняются нам сознательно. Другие считают, что тучи и планеты двигает бог. Третьи видят причины движения в желании небесных тел сделать так, чтобы было удобно человеку. Давайте послушаем, что отвечали на вопросы Пиаже дети одного из швейцарских домов ребенка в 20-х гг. нашего века:
Сала (8 лет)
«Сала, ты уже видел движущиеся тучи? Что их двигает?» — «Когда мы движемся, они двигаются тоже».— «Можешь ты заставить их двигаться?» — «Каждый может, когда он движется».— «А ночью, когда все спят, они движутся?»— «Да».— «Но ты сказал, что они движутся, когда кто-нибудь идет?» — «Они всегда движутся. Кошки, когда идут, и собаки, они заставляют тучи двигаться».
Фрэн (9 лет)
«Фрэн, солнце движется?» — «Да».— «Почему?» — «Потому что оно хочет сильно сиять».— «Зачем?» — «Потому что иногда бывают леди и джентельмены, которые гуляют, и им приятно, когда хорошая погода».— «Солнце видит их?» — «Да».— «А когда мы идем, что оно делает?» — «Иногда оно смотрит на нас, иногда идет за нами».
Верн (6 лет)
«Почему корабль не тонет? Он тяжелее, чем камень, но не тонет?» — «Корабль умнее, чем камень».— «Что значит умнее?» — «Он не делает того, чего не должен делать».
Оказалось, на первой стадии развития мышления (4—6 лет) ребенок рассуждает так, как если бы неодушевленные предметы и объекты природы обладали сознанием и жизнью, психикой и душой (анимизм). Больше того, эти объекты неравнодушны к людям: Солнце и Луна следуют за нами, следят за нами и подчиняются нашим желаниям, а иногда посылают нам сновидения (сопричастность). Для такого ребенка центр всего мира — человек (а точнее — он сам). Все вещи и явления природы «сделаны» для человека, вокруг человека, ради него, а некоторые — и им самим (артификализм). Все они «хотят» обеспечить нам счастливую и удобную жизнь (финализм). Наконец, человек, живя в таком «удобном» мире, может воздействовать на предметы желанием и мыслью и вправе рассчитывать на «понимание» и «послушание» с их стороны (магическая причинность).
Причину такого смешения природного и психического Пиаже видит в том, что ребенок еще не выделяет себя из окружающего мира. Он как бы растворен в мире и не знает, что принадлежит ему (психическое, субъективное), а что нет (объекты природы). «В той степени,— писал Пиаже,— в какой ребенок игнорирует существование собственной мысли, он приписывает жизнь и сознание каждому объекту, который встречается на его пути, и по мере того, как он открывает свою собственную мысль, он перестает признавать за окружающими его вещами способность к сознательным проявлениям».
Действительно, с возрастом ребенка его сознание теряет тенденцию к одухотворению природы. Суждения ребенка о причинах явлений приближаются к суждениям взрослых. Так, для большинства детей в возрасте 7—9 лет тучи и небесные тела движутся уже не под влиянием воли человека, а под воздействием ветра. Лодка плавает не потому, что ей «так хочется», а потому, что ее держит вода. Но и тут понимание ребенком воздействия одного предмета на другой (ветра на тучу) еще совсем не похоже на понимание их физической взаимосвязи. Предметы по-прежнему обладают элементами сознания, способностью «отдавать приказы» и «слушаться» друг друга.
Лишь постепенно природный мир в сознании ребенка целиком освобождается от присущих ему ранее психических свойств. Превращается в «мир физики», мир естественных явлений и причин. Вместо приписывания предметам внутренних психических свойств (воля, сила, желание, понимание) ребенок начинает оперировать понятиями инерции, тяжести, механического толчка.
Почему же сознание ребенка расстается со столь удобным, всеобъясняющим анимизмом? Да потому, считает Пиаже, что ребенок активно действует в мире, вступает в контакт с предметами, слушает объяснения взрослых. Наблюдает противоречия между своими анимистическими суждениями и реальными событиями. И постепенно отказывается от приписывания вещам природы субъективных, психических свойств. Лучший пример тому — суждения ребенка о технических объектах: велосипедах, паровых машинах, поездах, мотоциклах, аэропланах. Оказалось, что, рассуждая о механизмах работы велосипеда и паровой машины, даже самые младшие дети редко прибегали к анимистическим суждениям. Конечно, они не могли правильно распознать истинные соотношения и связи частей, деталей. Причины движения механизма дети видели совсем не там, где они находились на самом деле (например, причиной движения велосипеда, по мнению ребенка, может быть любая его часть — цепь, колесо). Но все же это — естественные причины. Они не нуждаются в том, чтобы объекты их «понимали» и «слушались». Анимизм мышления, как туман, развеивается под влиянием практики и опыта. «Именно производство вещей и наблюдение их производства,— писал автор исследования,— является причиной того, что ребенок узнает сопротивление внешних объектов и необходимость механических процессов».
Итак, по Пиаже, причина анимистического мышления — «растворенность» ребенка в мире. Неспособность отличать реальные предметы от явлений психики и сознания. Но если так, тогда в сознании ребенка должен присутствовать и другой феномен: не только вещи должны наделяться свойствами одушевленных существ, но и субъективные, психические явления должны обладать свойствами вещей! И это подтвердилось. Опыты Пиаже показали, что маленький ребенок объединяет мысль со словом, воздухом, ветром. Малыш полагает, что мысль, подобно маленькому предмету, находится во рту или голове. Имя, название вещи он считает частью самой вещи, частью ее «материального тела», подобно форме и веществу. Достаточно взглянуть на вещь, чтобы узнать ее название, а изменить название — значит изменить саму вещь. Позднее название вещи как бы извлекается из предмета и помещается ребенком в воздухе, в слове и, наконец, в самой мысли. Сновидение малыш уподобляет «картинке из воздуха или света», которая входит в глаза извне. Малыш думает, что сновидение, как и любая вещь, может войти в комнату, где он спит. Может выйти из нее. Для более старших сновидение — не внешний предмет, а собственный продукт человека, выходящий из головы или желудка и встающий перед глазами.
Картина ранней фазы развития детского мышления, построенная швейцарским исследователем, завершена. Ребенок 4—6 лет не только одушевляет природу, но и овеществляет психику. Приписывание сознания предметам (анимизм) имеет своей обратной стороной «опредмечивание» сознания (реализм).
«Но эта теория родилась в Женеве более полувека назад,— скажет читатель.— За это время столько изменилось! А развитие техники, телевидения, полеты в космос? А мощный поток детской литературы, а лавина популярных кино- и телепрограмм? Неужели же это не отразилось на характере детского мышления? Не приблизило его к современной научной мысли?»
Увы! Советские психологи Л. Ф. Обухова и Н. Б. Шумакова совсем недавно повторили вышеописанные опыты Пиаже. И обнаружили, что ответы наших детей удивительно напоминают ответы женевских малышей, превратившихся теперь в старичков и старушек. Послушаем диалоги с детьми:
Андрей (6 лет 9 мес.)
«Андрей, почему звезды не падают?» — «Они маленькие, очень легкие, они вертятся как-то на небе, это не видно, только по телескопу видно».— «Почему ветер дует?» — «Потому что ведь надо помогать людям на парусниках в спорте, он дует и помогает людям».
Илья (5 лет 5 мес.)
«Илья, откуда сон приходит?» — «Когда смотришь что-нибудь, он в мозги зайдет, а когда спишь, то он из мозгов выходит и через голову прямо в глаза, а потом онуходит, ветер его сдувает, и он улетает».— «Если кто-нибудь с тобой рядом будет спать, он сможет увидеть твой сон?» — «Наверное, может, потому что он может, наверное, через мое зрение проходить к маме или папе».
Знакомая картина? Конечно, в рассказах малышей появляется новая информация, навеянная достижениями науки и техники,— ракеты, космические корабли, телевидение… Но изменилась ли внутренняя суть рассуждений? «Для объяснения,— пишет Л. Ф. Обухова,— привлекаются знания, почерпнутые из телевизионных программ: о космонавтах, луноходах, ракетах, спутниках, даже о пятнах на Солнце. Воздушное пространство, химические реакций, телескопы присутствуют в объяснениях детей. Но за этим новым содержанием стоят все тот же «реализм», анимизм, артификализм… В отличие от данных Пиаже, только лишь идея бога не используется для объяснения происхождения различных природных явлений нашими московскими испытуемыми».
А теперь вернемся к вопросу о причинах одушевления ребенком природного, физического мира. Напомним, что, по мысли Пиаже, эти причины — в неспособности ребенка разделить себя и окружающий мир, духовное и материальное, субъективное и объективное. Постепенно, встречая в опыте и общении с людьми противодействие своим «магическим» объяснениям, ребенок отбрасывает их.
Возможно, читатель спросит: «Как же так? Ведь способ объяснения мира нельзя сбросить подобно тому, как змея сбрасывает старую кожу. Если ребенок верит в то, что предметы могут думать и понимать, как же можно опровергнуть это на опыте? Ведь мы не можем раскрыть предмет и показать, что внутри у него нет никакой психики. А раз так — любой опыт и внушения взрослых не смогут опровергнуть веру ребенка в то, что вещи и явления природы способны думать, чувствовать, понимать?»
Вопрос серьезный. И ведь дело не только в том, что мы не в силах «разрезать» предмет и показать, что у него нет никаких внутренних, психических свойств. Главное препятствие к разрушению анимистического мышления в том, что восприимчивость к опыту, к противоречию уже предполагает отношение к природе как к совокупности обычных, неодушевленных вещей. Если такого отношения нет, никакой опыт не в состоянии поколебать уверенность человека в одухотворенности вещей, в нашей способности «магически» влиять на них. Ведь то, подчиняется или нет вещь нашему «магическому» воздействию, зависит от ее «доброй воли». А значит, любое количество неудач не может считаться опровержением «магической» практики. Просто во всех этих случаях природа «не захотела» нам подчиниться. В самом деле, веками люди верили, что болезни можно изгонять заклинаниями, духов дождя — уговаривать посылать дождь… Если бы опыт мог разрушить эту веру, она, несомненно, исчезла бы уже тысячи лет назад. Почему же, несмотря на неудачи, люди упорно продолжали заклинать духов? Да потому, что любой неудаче сразу находилось соответствующее сверхъестественное объяснение. Если европеец, путешествуя по Экваториальной Африке прошлого века, стрелял в священную птицу и не попадал, местные жители торжествовали. Так и должно быть — ведь священная птица неуязвима. Если выстрел был метким, сомнений все равно не возникало. Ведь он белый, а на белых влияние духов не распространяется.
Итак, опыты швейцарского психолога ставят перед нами трудную проблему. Оказывается непонятным, как ребенок, сознание которого является анимистическим, переходит к естественнонаучному пониманию мира природы? Теоретически это кажется невозможным, практически это так. В чем тут дело?
Да и существует ли вообще анимизм детского сознания? Не является ли этот феномен просто изобретением психологов, ничего общего не имеющим с реальным процессом развития детского мышления?
В самом деле, обратим внимание на метод Пиаже. Это метод словесного опроса. Но ведь то, что на словах ребенок приписывает душу Солнцу, Луне, ветру, еще совсем не значит, что он и на самом деле верит в одушевленность вещей. А не является ли анимизм… простым следствием особенностей детской речи? Особенностей, за которыми не скрыто никакой веры? Ведь и мы, взрослые, сплошь и рядом употребляем выражения и словообороты с анимистическим содержанием. Мы говорим «Ученье и труд все перетрут», прекрасно понимая, что ни «ученье», ни «труд» не являются субъектами и не могут целенаправленно действовать. А такие бытующие в нашей речи выражения, как «Солнце взошло»; «Туча закрыла небо»; «Тарелка разбилась»? Да вся речь взрослых людей буквально пронизана анимистическими оборотами, за которыми, конечно, не стоит никакой веры в то, что неодушевленные предметы могут сами «всходить», «закрывать», «разбиваться». Мы понимаем условность этих выражений. Их символическое значение. Так почему же мы должны считать, что ребенок, употребляя те же слова, действительно верит в магию, волшебство и одушевленность вещей?
Да и на словах дети далеко не всегда проявляют эту веру. Американский психолог Хуанг в конце 20-х гг. нашего века провел любопытное исследование. Он предлагал малышам объяснить ряд фокусов и непонятных физических явлений. Вот на глазах у ребенка в носовой платок заворачивают зубочистку, дают малышу ее сломать, а затем, развернув платок, демонстрируют, что она цела. Вот, бросив в рукав монету, взрослый «достает» ее через ткань пиджака. Вот малыша просят объяснить, почему все железные предметы тонут, а игла, осторожно опущенная на поверхность воды, плавает; почему вода не выливается из пробирки, опущенной отверстием вниз, если к отверстию приставлен листок бумаги.
Казалось бы, наблюдая столь непонятные ему явления, ребенок непременно должен прибегнуть к понятию волшебства? Проявить веру в способность вещей к целенаправленным, сознательным действиям? Ничуть не бывало! Почти все дети, даже самые маленькие (4—5 лет), пытались объяснить загадочные явления вполне естественным образом. Правда, истинные причины явлений они указать не могли. Объясняя фокус с монетой, дети говорили, что в рукаве была дырка. Иголка плавает, потому что она «легкая» и «сухая». Вода не выливается из пробирки, потому что бумага «приклеилась». Но все же это были ответы в духе научного мировоззрения — ведь и ученые, объясняя новые явления, не всегда правильно указывают их истинные причины. И конечно, такие ответы детей совсем не предполагали наличие в вещах какой-бы то ни было души или психики.
Сходные данные были получены советскими психологами А. В. Запорожцем и Г. Д. Луковым. Они предлагали малышам бросать в воду маленькие предметы, различные по форме и материалу, и предсказывать, будет предмет плавать или нет. Затем ребенок должен был объяснить, почему опыт подтвердил или опроверг его догадку. Оказалось, что вначале малыш дает самые неожиданные объяснения, часто противоречащие друг другу. Постепенно, однако, он начинает понимать, что плавают не все маленькие предметы. И даже не все легкие предметы. Наконец, самые старшие дети под воздействием опыта давали Ответы, близкие к понятию удельного веса. Но вот что интересно: даже неправильные ответы детей были вполне наукообразны! Испытуемые не обращались к идее анимизма. Под влиянием опыта их суждения о причинах плавания тел приобретали все более зрелый характер.
Кто же прав? Почему данные ученых противоречат друг другу? Ведь согласно опытам Пиаже мышление 3—6-летнего ребенка анимистично. Малыш одухотворяет природу. Верит в способность предметов к сознанию, воле, пониманию. Другие же исследователи показывают обратное: уже 4-летний малыш может давать непонятным явлениям наукообразное объяснение. Способен изменять его под влиянием опыта. Да и сам швейцарский исследователь в некоторых опытах подтверждает: суждения детей отнюдь не всегда анимистичны.
Итак, вопрос о том, существуют ли для ребенка «живые предметы», остается открытым. С одной стороны, в своих суждениях о природе и космосе дети как будто выражают веру в способность вещей к психическим проявлениям, а значит, и веру ввозможность магии и волшебства (ибо что такое волшебство, как не способность мысленно заставить предмет подчиниться нашим желаниям?). С другой стороны, объясняя не менее непонятные явления, ребенок рассуждает вполне здраво, не прибегая ни к какой магии и духам, якобы обитающим в неодухотворенных телах.
Так существует ли у ребенка анимистическое мышление? Действительно ли малыш верит в реальную возможность волшебных событий? В то, что Солнце, Луна, река, ветер способны понять и послушаться человека? В то, что один предмет может под влиянием магических слов и волшебной палочки превратиться в другой? Неживое тело — в живое? Кролик — вдруг заговорить человеческим голосом? Какими тайными нитями соединены в сознании ребенка возможное и невозможное, сказочное и реальное? Как прояснить эти загадочные вопросы?
Попробуем сделать еще один шаг. Но об этом — в следующей главе.
Где бывает волшебство?
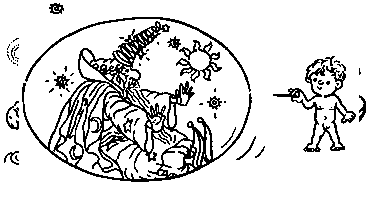
Сколько бы ни прославлял современный мир успехи естественных наук, сколько бы ни демонстрировал свою веру в рациональное мышление и трезвый расчет, живет в нем и волшебство. Волшебство изобразительного искусства, поэзии, сказки. И тянется душа современного человека к «поэзии волшебства». А несколько веков назад не только народные массы Европы, но и многие просвещенные деятели эпохи Возрождения вполне искренне верили в невероятные возможности астрологии, черной магии, чародейства. «В эпоху Ренессанса,— пишет известный советский ученый А. Ф. Лосев,— гадали на трупах… составляли любовные напитки, вызывали демонов, совершали магические операции при закладке зданий, занимались физиогномикой и хиромантией, бросали в море распятия с ужаснейшими богохульствами и зарывали в землю ослов для вызывания дождя во время засухи. В массовом порядке верили в привидения, в дурной глаз и вообще во всякого рода порчу… околдовывали детей, животных и полевые плоды».
Наука развеяла эти иллюзии. Взамен кажущегося всезнания и всемогущества магии она дала человеку твердое и прочное знание. Дала ему пусть не такую большую, но действительную власть над природой. И все же понятия «магия», «волшебство» не исчезли из мира. Свергнутые с «престола мысли», они затаились, но не погибли. Уступив дорогу науке, где-то нашли они себе скромный приют в душе современного человека. Заняли в его сознании небольшую, но все же заметную «психологическую нишу». Где же она? Где в жизни современного человека такие сферы чувства и опыта, в которых и по сей день хранится вера в «настоящее» волшебство?
«И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок… Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно и физиономия, прошу заметить, глумливая.
Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. Еще более побледнев, он вытаращил глаза и в смятении подумал: «Этого не может быть!..»
Но это, увы, было, и длинный, сквозь которого видно, гражданин, не касаясь земли, качался перед ним и влево и вправо.
Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза. А когда он их открыл, увидел, что все кончилось, марево растворилось, клетчатый исчез, а заодно и тупая игла выскочила из сердца».
Да, Михаил Александрович Берлиоз, герой романа Михаила Булгакова, удивился, и было чему! А вот мы, читатель, этому невероятному событию удивились гораздо меньше. А иные, читая роман, и совсем не удивились. Почему?
«Одно дело — волшебство в романах, другое — в реальной жизни»,— скажете вы. Вот вы и провели первую грань, разделяющую всю реальность психической жизни современного человека на две части (будем называть их сферами психической реальности): сферу искусства и сферу обыденной реальности.
Та часть нашей повседневной жизни, где царят физический закон, рациональная мысль, где на все необычное, волшебное наложен невидимый запрет,— это и есть обыденная реальность. Как правило, мы попадаем в нее со звоном будильника. Вернее было бы сказать, выплываем, иногда с радостью, иногда с сожалением, ибо там, в «глубинах», в которых мы находились до этого, царит совсем иная реальность. Причудливый, хаотичный мир образов сновидения — то смутных, то удивительно ярких. Мир событий, то напоминающих нашу обычную жизнь, то поражающих своей странностью, алогичностью. Два человека могут слиться в одно лицо, добрый — вдруг оказаться злым, а злой — добрым. Предметы способны изменить свою форму и цвет, хижина превратиться в хрустальный дворец, а дворец — в хижину. И в этом странном, колышущемся мире обыденная реальность не оставляет нас. Мы продолжаем бороться с врагами, стремиться к своим целям, страшиться неудач. Но, вопреки всем препятствиям и границам, тайно желаемое вдруг осуществится, а то, чего в реальной жизни добился с таким трудом, в этом мире вдруг лопнет как мыльный пузырь! И великая радость и большое горе в этом мире ближе. Протяни руку — вот они! Здесь мир соткан нашей творческой фантазией, он — порождение наших желаний, страхов, надежд. Стоит о чем-то подумать — и оно тут же обретает зримые формы. Стоит чего-нибудь испугаться — и предмет страха, вдруг обретя призрачную реальность, уже приближается к нам. Вот где господствует анимизм! Предметы как бы знают и чувствуют наше отношение к ним, сознательно подчиняются нашей воле или препятствуют ей.
Просыпаясь, мы вновь обретаем устойчивый мир обыденной реальности. Мир, соблюдающий строгие и неизменные законы природы. Лишь на мгновение, после особенно крепкого сна, мы замираем в удивлении: кто мы? Где мы? Что вокруг нас? Но нити прошлого и настоящего, словно послушные чьей-то искусной руке, мгновенно связаны, и мы окончательно стряхиваем оцепенение сна. Войдя в устойчивое русло, поток нашей жизни неумолимо катится вперед. Мы встаем, умываемся, завтракаем, идем на работу… Все вокруг нас знакомо, естественно, обыкновенно. И даже необыкновенные явления в этом мире не очень нас удивляют. Мы уверены — рано или поздно они будут изучены и объяснены.
Но и в активном состоянии человек время от времени может выпадать из сферы обыденной реальности. Вот, сидя на скамейке в тени дерева, мы задумались… и окружающий мир, «раздвоившись», как бы отрывается от своей реальной основы. Окрыленный нашей фантазией, он вновь обретает способность к волшебным превращениям. И опять предметы начинают «чувствовать» наши желания и чутко «отзываться» на них. И вновь препятствия, казалось бы, непреодолимые, развеиваются как дым, и мы с надеждой протягиваем руку к желанной цели. И опять причудливые образы теснятся перед глазами. В этом мире — мире фантазии — возможно все. Вот мы летим на кончике светового луча, вот химическая формула обретает форму дракона, схватившего себя за хвост, а блеснувший на солнце узор паутины превращается в узор сочленений гигантского стального моста.
А мир творческой детской игры? С какой легкостью переносит ребенок в игру сказочные приключения Кота в сапогах! Как ловко сокрушает врагов, развеивает чары злого волшебника! Как по мановению волшебной палочки прутик превращается в лошадь, дощечка — в меч, а лопухи у забора — в могучих великанов. Конечно, игра детей — это не просто мир фантазии, воображения. Она подчиняется своим внутренним, игровым законам. Но эти законы отнюдь не препятствуют тому, чтобы варежка стала живым щенком, а плюшевый мишка заговорил человеческим голосом. Игрушки и игровые предметы «добры» к ребенку. Они «знают» и «чувствуют», что нужно маленькому фантазеру, и охотно выполняют его желания.
Наконец, мир искусства — поэзии, живописи, литературы. Творческая фантазия художника не может лишь копировать реальность, она преображает ее. В этом новом, сотканном мире есть место обычному и необычному, естественному и волшебному. Поэзия своим божественным дыханием «пробуждает» предметы от векового сна — и вот уже они мыслят, чувствуют, говорят. Доверчиво раскрывают они поэту свои потаенные недра. Тайными духовными нитями сопричастия и сопереживания связан художник не только с людьми — птицы и рыбы, растения и камни говорят ему… Помните пушкинское: «И внял я неба содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье»? Весь мир для поэта полон жизни, души, смутного, непробужденного, но готового пробудиться сознания.
Конечно, фантазия, игра, искусство — это сферы психической реальности, в которые человек редко погружается целиком. Проникая в них, какой-то своей частью мы всегда остаемся на почве обыденной реальности, и лишь сновидение способно захватить нас целиком, без остатка. Однако, при всем их различии, эти сферы объединяет одно — именно в них возможны события необычные, волшебные, невероятные! Именно в них предметы могут обрести душу и сознание. Именно в них духовное и материальное, психическое и физическое не разделены непроходимой гранью. Короче, именно в этих сферах существует анимистическое мышление.
А теперь вернемся к проблеме детского анимизма. Сейчас мы можем сформулировать ее точнее: анимизм у детей имеет место тогда, когда малыши допускают волшебство в запретную для них сферу — сферу обыденной реальности. Если же ребенок, подобно взрослому, помещает волшебство в его собственную стихию — сказку, игру, сновидение, а из сферы обыденной реальности решительно исключает, значит, у малыша сложился естественнонаучный способ объяснения мира.
Когда же у ребенка возникает грань между миром обычного и необычного? Когда и как начинает он понимать, что возможно, а что невозможно в сфере обыденной реальности? В каком возрасте воспитание и собственный опыт ребенка окончательно изгоняют волшебников и фей из области обыденной реальности в область сказки, игры, сновидения? Вот проблемы, подлежащие исследованию. Вот задачи, решение которых может дать нам ответ на вопрос, существует ли у ребенка вера в одухотворенность вещей.
Для начала попытаемся прямо задать эти вопросы детям разного возраста. Построим наш диалог так, чтобы как можно точнее узнать, существует ли в сознании ребенка грань между сферой обыденной реальности и другими сферами психической жизни и насколько прочна эта грань.
1. Скажи, ты много знаешь? Ты все на свете знаешь? А кто знает больше тебя?
2. Ты все умеешь? Ты все можешь сделать? А кто может сделать больше тебя?
3. Есть на свете человек или какой-нибудь волшебник, который все знает и все может? А может такой волшебник быть в сказке, в игре?
4. Может этот волшебник придумать тебя?
5. Может этот волшебник сделать тебя?
6. Может этот волшебник выйти из сказки на белый свет?
7. Можно придумать такого могучего волшебника, который может выйти из сказки па белый свет?
8. А подумать о таком волшебнике можно?
9. Но раз мы о нем думаем, значит, в наших мыслях он существует?
10. Если этот волшебник всемогущий и в наших мыслях он существует, значит, он может выйти оттуда на белый свет? Почему?
Читатель видит, первые два вопроса — вспомогательные. Они лишь подводят к началу настоящего разговора. Главный — третий вопрос: признает ли ребенок возможность существования волшебства в сфере обыденной реальности (на «белом свете») или же помещает его только в сферу сказки и игры? Дальше мы пытаемся выяснить, что понимает ребенок под словом «волшебник», какое содержание вкладывает в него (вопросы 4—5). Если окажется: волшебник так всесилен, что, вопреки всем законам природы, может творить «нечто из ничего», то есть ли какие-то пределы его всемогущества? В самом деле, поскольку он может создать человека, почему бы ему не сотворить самого себя по образу и подобию человека («выйти из сказки на белый свет» — вопрос 7). Если ребенок воспротивится такой возможности, «не пустит» волшебника в сферу обыденной реальности, это будет означать, что в его сознании между сферой обыденной реальности и сферами сказки, воображения, игры уже возникла определенная грань.
Теперь нам остается выяснить, насколько прочна такая грань. Не рухнет ли она под напором логических аргументов. Испытаем ее па прочность — зададим ребенку вопросы 8—10. Конечно, он вынужден будет признать, что в наших-то мыслях всемогущий волшебник, способный проникнуть из сказки в реальный мир, существует — ведь мы думаем, рассуждаем о нем. А вот теперь нанесем удар: раз этот волшебник есть в наших мыслях и действительно всемогущ, он обязательно должен попасть и в реальный, обыденный мир («выйти на белый свет»). Иначе получится противоречие: всемогущий волшебник пасует перед простой задачкой; как рыба об лед бьется о невидимую грань между сказкой и реальностью, будучи не в силах преодолеть ее. Эти вопросы мы задавали дошкольникам и школьникам — детям в возрасте от 4 до 13 лет.
Оказалось, что лишь маленькие дети (4 г.), да и то не все, а меньше половины из них, «допускают» волшебника в сферу реальной жизни. Волшебник этот, подобно Карлсону, существо приходящее. Живет он «в подвале», «в горе», «на другой планете», и встреча с ним — дело небезопасное. Все же остальные — и маленькие, и старшие — были единодушны: никакого волшебника в реальной жизни нет и быть не может! Есть, конечно, люди, которые могут многое («фокусник», «ученый», «профессор», «мастер — золотые руки»), но — не нарушая законов физики. В сказке, мультфильме, книжке — пожалуйста. «На белом же свете» — нет!
Может ли сказочный волшебник «придумать, сделать» человека? Конечно — таков был ответ большинства. Правда, некоторые малыши и даже школьники отрицают подобную возможность. Раз волшебника «по-настоящему» нет, значит, и сделать настоящего человека он не в состоянии («Он же в сказке, а я не в сказке, как он может меня придумать?»; «Ведь он же не живой, волшебников вообще-то не существует»; «Нет, сказка — это выдумка, и он не может придумать меня, его не существует»; «Нет, не может, ведь он не видит — он сам вымышлен»). Но и эти дети соглашались, что «внутри сказки» волшебник может создать все — в том числе и такого же человека, как они сами. А вот чего он действительно никак не может, так это выйти из сказки или игры. Тут мнение наших собеседников было твердым («Нет, не может, потому что это игра»; «Не может, потому что он в сказке»; «Нет, потому что сказка — это просто… слова для детей, чтобы им не было скучно»).
Ну что ж, кое-что мы узнали. Значит, даже у самых маленьких детей в сознании имеется четкая, непроходимая для волшебства грань. Грань между сказкой, игрой, воображением и обыденной реальностью. Теперь проверим ее на прочность.
Малыши 4—5 лет не поняли вопросов 8—10. Зато большинство старших дошкольников и все школьники легко попали в наш «логический капкан». И не мудрено. Попробуй-ка не признать, что всемогущий волшебник существует в нашем мышлении, раз мы думаем, рассуждаем о нем! Да, конечно, можно подумать и о таком волшебнике, который способен выйти из сказки на белый свет. А что же тут особенного? Однако, услышав последний вопрос, дети были озадачены.
В самом деле, как же так? Все было очень логично: и в мышлении этот волшебник существует, и всемогущ он настолько, что даже «выскочить» из сказки может, и… в итоге-то получается что-то несуразное. Либо, если волшебник всемогущ, он на самом деле должен «пробить» дверь из сферы наших мыслей в сферу реальности, либо он сделать этого никак не может и… тогда не всемогущ. Концы с концами не сходятся: существует и… не существует; всемогущий и… не может. Хочешь — не хочешь, а придется или «пропустить» волшебника через барьер между сказкой и реальностью, или признать свою логическую несостоятельность. Вот тут-то и заколебалась та самая грань, тут-то и выяснилось, крепка ли она.
Результат оказался впечатляющим. Несмотря на то что противоречивость в суждениях явно смущала детей, лишь единицы из них (в основном дошкольники) уступили напору логических аргументов. Согласились выдать волшебнику «визу» на въезд в сферу реальной жизни. Абсолютное большинство с достоинством выдержали натиск. Послушаем диалоги с детьми:
Настя (7 лет)
«Настя, если этот волшебник по-настоящему всемогущий и может по своему желанию выйти из мыслей, значит, он на самом деле сейчас может выйти и сесть вот на этот стул?» — «Да».— «Значит, если мы очень сильно о нем подумаем, он перед нами сядет?» — «Нет, потому что он не сможет выйти, у него никак не хватит сил, чтобы как-то выйти из мыслей».
Артем (9 лет)
«Артем, раз этот волшебник существует в мыслях и может из наших мыслей выйти на белый свет, он сейчас выйдет и сядет?» — «Нет, он только в наших мыслях, а за пределами нет».— «Значит, он не всемогущий?» — «Нет».— «А можно подумать о таком всемогущем волшебнике, который по-настоящему может выйти из мыслей на белый свет?» — «Можно, но если это только как фантастика. А по-настоящему, какой бы он ни был всемогущий, он не может выйти, потому что он не существует, его можно только вообразить».— «Значит, он не всемогущий?» — «Да».
Роман (13 лет)
«Рома, но раз этот волшебник в наших мыслях существует и он такой всемогущий, что может оттуда выйти, значит, он сейчас выйдет?» — «Нет, он по-своему всемогущий, по-сказочному. Он может что-то там… бабу-ягу превратить в сову в какую-то, в ворону, но представить такого всемогущего волшебника, чтобы… я не могу. Он всемогущий, но именно вот по-своему всемогущий».— Значит, мы о таком всемогущем волшебнике подумать не можем?» — «Нет, подумать мы можем, но так, чтобы он вошел в наш мир по-настоящему, мы подумать не можем».
Итак, наши испытуемые не только не пустили волшебника в сферу обыденной жизни, но и в большинстве своем удержали границу этой сферы под напором логических аргументов. А это значит, что уже у 6-летних детей граница между сказкой и обыденной реальностью действительно существует, и к тому же весьма устойчивая. Внутри этой границы царит естественный, научный закон. Магия, волшебство, анимизм «изгнаны» за ее пределы в сферу сказки, игры, фантазии.
Казалось бы, поставленная нами проблема решена. Мы выяснили, что о вере ребенка в волшебство и одухотворенность предметов нельзя говорить «вообще». Надо задать вопрос: где, в какой сфере психической реальности существует такая вера? Если она только в сфере игры, фантазии, сновидения, ни о каком анимизме мышления еще говорить нельзя. Если же она проникает в сферу обыденной реальности, значит, мышление ребенка действительно обладает чертами анимизма. Мы видели, что граница между сказкой и обыденной реальностью возникает уже у многих малышей (4—5 лет). Дети 6 лет и старше все признают эту границу. Значит ли это, что у ребенка уже не существует анимистического мышления? Что у него полностью исчезла вера в возможность невероятного? В волшебство и одухотворенность вещей?
И да, и нет. Да, если речь идет о словах. Нет — если о делах. На словах дети действительно уже не верят в реальную возможность волшебства. А на деле? Ведь если дети 5—6 лет и старше говорят о невозможности волшебства в реальном мире, это совсем не значит, что в глубине души они действительно так считают, даже школьники. Как же это доказать? Как проверить, на самом ли деле ребенок избавился от веры в возможность волшебства, или он утверждает это только на словах? Способ один — надо поставить ребенка в такие ситуации, в которых он, подобно булгаковскому Берлиозу, сам столкнулся бы с невероятным событием. Не в сказке или в книжке, а в реальной жизни встретился с «волшебством». Тогда своими поступками он и покажет, полностью ли не верит в волшебство, или в тайниках души эта вера еще не угасла. Нужно только создать такие условия, чтобы, во-первых, ребенок действительно никак не мог найти естественного объяснения и, во-вторых, чтобы вера в волшебство, если она есть, могла проявиться в реальных поступках и действиях малыша.
Как это сделать? Задача не из простых. Но все же можно попытаться ее решить.
Для начала представим ребенку волшебную ситуацию в словесной форме. Вновь попробуем выяснить, допускает ли он возможность волшебного превращения в сфере обыденной реальности. Попытаемся еще раз определить, существует ли у него на словах грань между сказкой и реальностью. Зададим такие вопросы: «Могут ли рисунки сами превращаться в то, что на них нарисовано? Может ли нарисованный слон превратиться в настоящего, если сказать волшебное слово?» Запишем ответы ребенка.
А теперь перенесем малыша в сферу фантазии. Постараемся настроить себя на тон сказочника: «Сейчас я расскажу тебе «Сказку про магическую шкатулку» — и начнем повествование. И побольше красочных, живописных подробностей: ведь они так будоражат воображение малыша! Схема сказки такова: девочка Маша получает в подарок шкатулку, которая обладает волшебным свойством — превращать изображения предметов в сами предметы. Стоит положить рисунок в шкатулку и произнести волшебные слова «Альфа, Бета, Гамма», как в ней окажется настоящий предмет. Вначале Маша не поверила этому, но, попробовав, убедилась в волшебных свойствах шкатулки. «Раскрыв шкатулку, она замерла в изумлении: там, где раньше лежал рисунок, сверкнул ярким рубином маленький золотой перстенек» — так закончим мы свою сказку. Надо только не забывать по ходу повествования показывать ребенку цветные картинки, на которых изображены Маша, шкатулка, рисунки, предметы и все, что с ними приключилось.
С каким увлечением слушает сказку ребенок! Но запомнил ли он ее, понял ли? Попросим повторить. А убедившись, что запомнил и понял, зададим вопросы: «Почему шкатулка превращает картинки в предметы? Значит, можно с помощью волшебных слов превращать картинки в то, что на них нарисовано? А почему же ты раньше говорил, что нельзя?» Тут мы увидим, отличает ли маленький собеседник сказочный мир от обычного мира, проводит ли между ними грань, непроницаемую для волшебства.
Увидев, что отличает, подождем несколько дней. А теперь перейдем к самому главному. Перенесем сказку про магическую шкатулку в нашу экспериментальную — отнюдь не сказочную — лабораторию. Пригласим ребенка в комнату и поставим перед ним красивую резную шкатулку — точь-в-точь такую, какая была изображена на рисунках к сказке. Рядом со шкатулкой разложим яркие, небольшого формата предметные картинки: перстенек с камешком, красивая заколка, зажигалка (надо же что-то предусмотреть и для сильного пола), авторучка. Добавим к ним картинки с «несимпатичными» насекомыми — пауком и осой. А в кармане у нас — полный набор этих предметов, уже не нарисованных, а реальных (разумеется, кроме насекомых). Дадим ребенку полюбоваться всем этим, потом предложим: «Хочешь, я покажу тебе ту самую магическую шкатулку, которую подарил Маше Василий Васильевич? Вот она. А вот колечко, зажигалка, авторучка, которые шкатулка сделала мне из рисунков».
Подождем — пусть малыш выразит свое удивление, недоверие. А потом под благовидным предлогом покинем комнату: «Я схожу по делам, а ты пока поиграй. Если хочешь, можешь воспользоваться шкатулкой. Только не забудь, что волшебные слова надо произносить громко, иначе шкатулка их не услышит».
Будем наблюдать сквозь маленькое отверстие в стене комнаты, что делает ребенок, оставшись наедине со шкатулкой. Вот тут-то мы и получим ответ на вопрос, существует ли у него не только на словах, но и на деле вера в возможность волшебства. Если ребенок действительно убежден, что волшебство бывает лишь в сказке, он может покрутить шкатулку, посмотреть картинки — и только. Ну, а если… Если в тайниках маленькой души все же живет вера в волшебное, необычайное. Почему бы тогда не попробовать — а вдруг? Ведь так хочется надеть на палец колечко, похвастаться перед ребятами новой красивой авторучкой!
Правда, скептически настроенный читатель может возразить: «Может быть, ребенок, прибегнув к магическим заклинаниям, просто играет в сказку. На самом же деле не верит в их действенность?»
Ну что ж, проверим и это. Подождем, пока малыш вдоволь «наколдуется», а затем войдем в комнату: «Ну как, получилось?» Если ребенок играл в волшебные слова, не веря в их действенную силу, он не выкажет никакого разочарования. В чем же разочаровываться, если заранее было ясно, что ничего не получится? Если же он не просто играл, а всерьез верил и надеялся, неудача разочарует его. И это обязательно проявится в действиях и высказываниях малыша («Эх, не получилось!», «А как вы это делали, покажите»; «А шкатулка-то вовсе не волшебная!»).
Результаты оказались поразительными. На словах почти никто из детей 4—7 лет не допускал возможности волшебного превращения нарисованного объекта в реальный, одного предмета в другой. Причины приводились самые разные. Кто-то просто, без всяких рассуждений отвергал такую возможность («Не превратится, потому что не превращается!»). Кто-то видел препятствие к превращению в материале, из которого сделан предмет («Нарисованного слона нельзя превратить в живого, потому что он бумажный и нарисованный»; «Бутылка не может превратиться в зайца, потому что она стеклянная»). Более старшие подводили под свой ответ «научную основу»: предмет и картинку нельзя превратить, потому что они не волшебные, а волшебства в жизни не бывает. На вопрос, где же бывает волшебство, дети единодушно отвечали, что в сказках, в мультфильмах, в кино. И, конечно же, никто не удивился тому, что произошло с героиней сказки.
И все же большинство самых маленьких — 4-летних и часть 5-летних, прослушав и обсудив сказку, заколебались. Теперь на повторный вопрос, возможно ли волшебство в реальной жизни, они ответили: «Да». На вопрос, почему не соглашались раньше, дети отвечали, что просто не знали, думали неправильно и т. п. Остальные (большая часть 5-летних и все 6—7-летние) по-прежнему стойко отрицали возможность волшебства в сфере обыденной реальности («Маша была в сказке, поэтому у нее получилось, а мы не в сказке»). Вспомним результаты нашей беседы о «всемогущем волшебнике». Удивительное совпадение! Значит, и в самом деле у детей 5—6 лет на словах четко прослеживается грань между сказкой и реальностью, и эта грань прочна и устойчива. Она выдерживает напор не только логических аргументов, но и эмоционально воспринимаемой детьми сказки.
Но это на словах. На деле же 90% детей — от самых маленьких до самых старших — вели себя совсем по-иному. Стоило взрослому выйти из комнаты, ребенок тут же приступал к магическим действиям. Картинки с пауком и осой — в сторону («Они страшные, еще превратятся»), желанный рисунок в шкатулку и… Читатель уже догадывается, что было дальше. Открыв шкатулку, ребенок замирал в удивлении — картинка по-прежнему лежала на своем месте. В чем дело? Попробуем еще раз… Опять неудача! Может, надо громче произносить волшебные слова? Наверное, надо еще и взмахивать руками — ведь так делают волшебники в сказках? А что, если заложить другую картинку, может быть, эта с дефектом и шкатулка не хочет ее превращать?
Использовав все возможные варианты, малыши не переставали удивляться своим неудачам («Не превратилось!»; «Опять картинка!»). И лишь после многочисленных напрасных попыток постепенно теряли интерес к магии и приступали к простому манипулированию с предметами: рассматривали шкатулку, играли с ней, раскладывали «пасьянс» из картинок… Ждали взрослого…
Ждали, чтобы обрушиться на него с удивлением и негодованием: «Как же так? Я пробовал, а у меня ничего не вышло!»; «А как вы это делали?»; «Покажите, как правильно закрывать шкатулку, как закладывать картинку, как произносить волшебные слова!» Стоит ли говорить, что, получив нужную информацию, большинство нетерпеливо ждали случая продолжить магические действия.
Итак, малыш не играл в сказку. Он действительно верил в превращение и ждал его. Вопреки своим же словесным уверениям в невозможности волшебства пытался осуществить его. Граница между сказкой и реальностью, столь четкая на словах, рушилась как карточный домик, стоило от слов перейти к делу. Протестуя в беседах против возможности волшебства, ребенок своими реальными действиями как бы говорит нам: «Верю!»; «А если?»; «А вдруг?». На словах для малыша шкатулка — «мертвый» предмет, на деле — «живой», способный прислушаться к просьбе, понять и выполнить ее.
Но… не будем торопиться с выводами. Попробуем еще раз проверить, подойти к вопросу с другой стороны. Если, согласно нашим данным, ребенок верит в возможность уговорить неживой предмет, значит втайне он считает его живым или способным ожить. Воспринимает предмет как сосуд, скрывающий в себе психику, душу, но способный в определенных условиях выпустить ее, обнаружить. Проверим это на опыте.
Схема опыта та же. Сначала вопросы: «Могут ли неживые вещи ожить? Может ли пластилиновый игрушечный носорог превратиться в живого?» Это — обыденная реальность. Затем — «Сказка про волшебный столик». И обязательно с картинками. Героине сказки — девочке Лене — подарили столик, обладающий способностью превращать поставленных на него игрушечных животных в живых. Лена не поверила этому, но все же поставила на столик разные игрушки. Каково же было удивление девочки, когда лев, оказавшись на столике, вдруг стал на ее глазах двигаться, расти, спрыгнул на пол, и только взмах волшебной палочки вернул его в прежнее состояние, превратил снова в игрушку.
Убедимся, что ребенок запомнил сказку, понял ее, и зададим наши вопросы: «Значит, неживые предметы могут оживать? А почему же ты раньше говорил, что в жизни такого не бывает?» Конечно, и тут большинство малышей будут отрицать возможность столь необыкновенного явления в реальной жизни. Теперь — к самому главному.
Но сначала — техническая часть. Наш «волшебный столик» — обычный ящик, закрытый со всех сторон. Сверху положен большой лист оргстекла. Внутри ящика — под поверхностью крышки и параллельно ей — по кругу бесшумно вращается сильный магнит. В другой комнате — пульт управления, провода замаскированы. Стоит поставить на столик другой магнит или кусочек железа, и он приходит в быстрое круговое вращение. Важно только, чтобы мотор был абсолютно бесшумен, а столик был точной копией того, который фигурировал на иллюстрациях к сказке. Вылепим из глины небольшие фигурки животных — зайца, белку, носорога, льва. Внутрь одной из них (льва) вставим небольшой магнит. Вот и весь «антураж», осталась косметика — покрасить игрушки, покрыть их лаком…
Теперь пригласим ребенка: «Хочешь, я покажу тебе волшебный столик из сказки? Вот он!» Подождем, пока пройдет удивление, поговорим о чем-нибудь, а затем оставим малыша одного. Да не забудем на всякий случай вооружить его «волшебной палочкой»: «Ты можешь попробовать оживить игрушки. Если кто-нибудь из зверей оживет, махни волшебной палочкой, скажи «Волшебство, прекратись!» — и он снова превратится в игрушечного».
Из другой комнаты мы скрыто понаблюдаем за поведением ребенка. Что будет делать малыш? Конечно, он не удержится от соблазна поставить на столик предметы. Само по себе это естественное любопытство, и манипуляции еще не говорят нам о наличии у ребенка веры в волшебные свойства столика — они могут быть и игрой. Но вдруг одна из игрушек — да не какой-нибудь безобидный заяц, а сам «царь зверей» — сдвинется с места и, подпрыгивая и качаясь, начнет бежать по гладкой поверхности стола. Наступит решительный момент опыта. Логика тут та же: если у малыша отсутствует вера в волшебные свойства столика и в возможность оживления неживого объекта, увиденное не вызовет ничего, кроме любопытства, желания разгадать устройство столика, поискать мотор, провода и т. п. Но если вера в одухотворенность вещей существует в душе ребенка, на размышления времени не останется. Опасный хищник ожил — надо бежать! А вдруг вырастет? Правда, есть еще время схватить волшебную палочку, крикнуть: «Волшебство, прекратись!» Что же получилось?
Как мы и ожидали, на словах возможность самопроизвольного оживления предмета в реальной жизни признали лишь несколько самых маленьких испытуемых в возрасте 4 г. Все же остальные дети 4—7 лет такую возможность решительно отвергли. Высказывания малышей напоминали те, которые мы слышали и раньше. Одни прибегли к простому отрицанию («Не может, потому что такого не бывает»; «Потому что она как была, так и будет, она не будет превращаться ни в кого, как окна, и кабинет, и стол»). Другие сослались на материал, из которого сделана игрушка («Не может, потому что она пластилиновая»; «Потому что пластилиновые никогда не превращаются»). Третьи попытались обобщить свои суждения: «Это было бы волшебство, а волшебства в жизни не бывает». Послушаем диалог с одним из детей:
Вика (5 лет).
«Вика, может этот игрушечный носорог превратиться в живого?» — «Нет».— «Почему?» — «Потому что он из пластилина».— «А если бы он был из дерева, смог бы?» — «Нет».— «А из железа?» — «Тоже нет».— «А из чего же он должен быть сделан, чтобы смог превратиться?» — «Из того, из чего настоящие носороги сделаны».
Итак, картина знакомая: в реальной жизни волшебства нет и быть не может! А в сказке? Ну, сказка есть сказка, там конечно. Правда, под влиянием сказки граница между сказкой и обыденной реальностью вновь поколебалась: некоторые малыши 4—5 лет стали утверждать, что подобное возможно и в реальной жизни. Но их было немного. Большинство стойко отстаивали невозможность волшебного превращения.
И что же? Стоило нашему маленькому «рационалисту» остаться одному, как он тут же пытался оживить зайца и белку. Кое-кто — носорога. Льва же большинство поставить на столик не решались. Сам по себе этот факт говорит нам о многом: если ребенок не верит в возможность оживления, почему же он боится поставить на столик льва?
Но все же надо довести опыт до конца. Надо, чтобы лев как-то оказался на столике. Придется нам войти в комнату: «Ну как, пробовал?» Конечно, дети знали, что столик превращает не все игрушки, по все же были разочарованы: «Не превращает! Не получается!» — «А ты все игрушки попробовал?» — «Все».— «А льва тоже ставил?»— «Ставил» (на самом деле ребенок даже не прикасался к этой игрушке).— «А ты все-таки попробуй еще раз поставить на столик льва». Подождем, пока малыш, ободренный присутствием взрослого, выполнит просьбу и облегченно вздохнет, увидев, что игрушка неподвижна… А теперь выйдем и включим мотор.
Вот и наступил решающий момент! Дети вели себя по-разному. Одни, увидев, что игрушка «оживает», опрометью бросались из комнаты. Встретив взрослого, кричали на бегу: «Превращается!» — и скрывались в коридоре. Другие, поспешно схватив волшебную палочку, восклицали: «Волшебство, прекратись!»… Остановим игрушку. Некоторое время малыш стоит неподвижно, уставившись на льва, иногда восхищенно вздыхает: «Вот это да!.. Волшебный! Превращается!» Затем медленно приближает руку к предмету. На лице — смесь испуга и любопытства. Попробуем снова включить мотор. Ребенок, отдернув руку, вновь хватает волшебную палочку. Затем все повторяется. Но довольно, дадим малышу исследовать игрушку. Что будет дальше? Вот он рассматривает льва, пытается оживить других зверей… Затем, влекомый любопытством, снова помещает на столик фигурку льва… на этот раз предусмотрительно приготовив волшебную палочку.
Итак, факт установлен — 80—90% детей в возрасте от 4 до 7 лет верят в возможность превращения. Что бы ни говорили ребенку опыт, разум и здравый смысл, ноги сами несут его из опасной комнаты, рука хватает волшебную палочку. И лишь очень немногие (около 10%) не проявили веры в волшебное оживление. Они, конечно, тоже ставили льва на столик, но, увидев, что игрушка двигается, не удивлялись. С интересом наблюдали за ней, спокойно брали в руки, манипулировали… В общем осваивали феномен как любопытное, но отнюдь не сверхъестественное явление.
Как же объясняют малыши свой испуг? Большинство не сомневаются: причина движения игрушки — волшебные свойства столика. Но при этом дети по-разному осознавали, интерпретировали данное явление. Одни утверждали, что лев ожил, вырос и спрыгнул со столика, но они вновь обратили его в игрушку при помощи волшебной палочки. Другие были ближе к истине: игрушка стала превращаться, но они не дали ей вырасти и остановили. Третьи утверждали, что лев «сделался живой», но почему-то не вырос. Наконец, четвертые, позабыв свой испуг, признавали: игрушка оставалась неживой, она просто двигалась. «Так почему же ты не взял ее и руки?» И тут даже самые рассудительные выдавали себя с головой: «Да, а если он рот откроет?»; «А если он укусит?»; «Боюсь, ом кусается!». Лишь совсем немногие дали действительно правильные ответы: «Потому что там какой-то механизм в ящике двигается»; «Там, в ящике, завод…»; «Там внутри — магнит». И не подумаешь, слушая малышей, что большинство из них всего минуту назад в испуге бежали из комнаты или хватались за волшебную палочку.
А теперь попросим детей еще раз поставить льва на волшебный столик, но на этот раз останемся в комнате, заранее включив мотор. Теперь большинство наших испытуемых смело выполняют просьбу. Ведь взрослый рядом, а если так — ничего страшного, волшебного случиться не может. Присутствие взрослого как бы поддерживает в ребенке веру в невозможность волшебства, укрепляет грань между сказкой и реальностью. И все же многие дети (30—40%) отказались выполнить просьбу («Боюсь, еще превратится!»; «Не буду ставить, а то он крутится, крутится — еще спрыгнет»; «А если он укусит?»).
Вот теперь мы можем с уверенностью сказать: да, у ребенка 4—7 лет существует вера в одухотворенность вещей, в возможность действовать на них магическим образом. Но вера эта не лежит на поверхности. Уже в 4—5 лет дети на словах решительно отрицают возможность волшебства, на деле же верят в нее. Но это может проявляться лишь в особых, специально созданных ситуациях. Для этого нам и понадобился эксперимент.
«Почему же на словах вера в волшебство исчезает, а в поступках остается?» — спросит читатель.
Вот мы и подошли к решительному пункту обсуждения проблемы детского анимизма. Суть в том, что мы столкнулись с психологическим феноменом противоречия между словом и делом, рассуждением и действием — феноменом, который встречается в самых разных областях психической жизни. В первой части книги мы описали это любопытное явление на материале нравственного развития ребенка. Опыты показали, что на словах дети гораздо раньше усваивают нравственные нормы поведения, чем овладевают способностью реально выполнять их. Пятилетний малыш вполне искренне осуждает героя прослушанной им истории, в которой тот нарушает моральные запреты. Однако поставленный в реальную ситуацию нравственного конфликта, ребенок охотно нарушает те же нормы, если только проступок не грозит быть раскрытым. В чем тут дело?
Вопрос сложный. Изучение его продолжается. Но кое-что ясно уже сейчас. Дело в том, что словесное, речевое, и реальное поведение представляют собой как бы два разных уровня, или слоя, человеческой жизни. Как правило, словесный поступок человека, его суждение мало что изменяет в ходе его реального бытия. Словесный «выигрыш» еще не означает реальной победы, а «поражение» на словах не ведет к фатальным последствиям. Словесный поступок обратим: на словах можно прыгнуть в пропасть без риска разбиться; положить голову в пасть льва, не подвергая при этом свою жизнь ни малейшей опасности. Все, что человек делает на словах, еще только план, гипотеза, проект. Это еще можно изменить, поправить или отвергнуть. Иное дело — реальный поступок. Что сделано — то сделано: последствия поступка необратимы. Если поступок приведет к неудаче или несчастью, последствия можно сгладить, но полностью избежать их нельзя. На словах можно совершить геройский поступок, сидя в кресле. На деле за него надо отдать спокойствие, здоровье, может быть, жизнь. Если в проект постройки вкралась ошибка, ничего страшного еще нет. Если этот проект реально осуществлен, последствия будут серьезны. Словесное поведение — не более чем «вариант», реальное — риск.
Но вернемся к нашей проблеме. На словах легко соблюсти моральную норму. Это даже престижно: все видят, какой ты хороший. На деле же за такой поступок надо чем-то «платить»: вступаясь за оскорбленного, рискуешь быть оскорблен сам, спасая тонущего, рискуешь собственной жизнью. Это противоречие и проявилось в опытах с детьми. С легкостью соблюдая нравственную норму на словах, малыш на деле не готов пожертвовать необходимым, например остаться честным, отвергнув желанную награду. Ведь награда — нечто реальное, и она так легко достижима! Надо только при выполнении трудного задания чуть-чуть, незаметно, словчить. Обмануть.
А теперь обратимся к теме нашей главы. На словах легко отрицать возможность превращения одного предмета в другой. И даже выгодно — ведь взрослые тоже думают, что в реальной жизни нет волшебства. Да и словесное признание возможности волшебства ребенку ничего не дает — от этого картинка не превратится в нужный предмет. А на деле? Конечно, можно и на деле проявить «научный» подход и отказаться от возможности «поколдовать» над шкатулкой. Но такой отказ — уже жертва, риск. Риск остаться без красивой заколки, авторучки. На словах легко отрицать превращение игрушки в живого льва. На деле рискуешь «поплатиться головой».
Теперь мы видим причину несоответствия между словом и делом. На словах малышу выгодно придерживаться точки зрения взрослого. А взрослый утверждает, что волшебство есть только в сказке. Ну что ж, в сказке, так в сказке. Что вам нравится, то и скажу. В самом деле, почему бы не сделать взрослому приятное? Так — быстро и легко — возникает грань между сказкой и реальностью. Но — лишь на уровне словесных действий. Грань эту легко поколебать, разорвать (логикой, сказкой), даже разрушить (наблюдение «волшебного» феномена), но она есть, существует. Иное дело реальное поведение. Тут ребенку ни к чему придерживаться логики взрослых — они ведь не наблюдают за ним. Так почему бы и не допустить волшебство в сферу реальной жизни? Ущерба никакого, а выигрыш может быть велик!
Итак, на уровне реальных действий границы между сказкой и реальностью у малыша еще нет. Вера в одухотворенность вещей, в возможность обращаться к ним с просьбой и рассчитывать на сочувствие легко уживается с естественнонаучным подходом к миру. Научный и ненаучный, физический и анимистический способы объяснения тут сосуществуют. Именно сосуществуют — и это проявляется в опытах. Ребенок, бегущий от волшебного столика, начинает обследовать его естественные свойства, как только взрослый выдает секрет опыта. Магическая практика со шкатулкой заменяется обычным манипулированием, когда ребенок узнает, что она не волшебная.
Здесь и кроется решение проблемы перехода от анимизма к научному мышлению. Следует, однако, тут же оговориться, что перехода как такового нет, скорее есть «смещение акцентов». Будь мышление ребенка анимистичным на все 100%, оно никогда не стало бы научным. Разгадка в том, что «зерна» анимистического и естественнонаучного подхода к миру возникают одновременно и существуют параллельно на протяжении всей жизни человека. Это неизбежно, как неизбежно сосуществование любого контраста: верх — низ, день — ночь, плюс — минус. Общение со взрослыми, умножение опыта в обращении с предметами реальной действительности просто меняют в сознании ребенка соотношение сил науки и волшебства: последнее вытесняется из сферы обыденной реальности. Сначала — на уровне словесном, речевом. Затем — на уровне реальных поступков. Опыты показали, что в возрасте 9—10 лет дети уже не проявляют веры в возможность волшебства, и она окончательно покидает сферу обыденной реальности.
Покидает, но не исчезает совсем. Она отступает в другие сферы психической жизни — сферу сказки, фантазии, игры. В сферу сновидений. В сферу искусства. Там она продолжает жить, волновать и радовать нас. Там в отведенных ей историей и культурой «психологических нишах» она выполняет свою вполне серьезную и важную роль. Создавая необычное, невероятное, ломая логику здравого смысла, разрывая барьеры и препятствия, возведенные обыденной реальностью, практика анимизма и волшебства окрыляет человеческую мысль, является неисчерпаемым источником новых творческих синтезов и оригинальных идей. Фантазия, преображая мир отнюдь не по законам рациональной логики и физической причинности, лежит в основе всякого, в том числе и научного, творчества.
А теперь вернемся к «трудным вопросам», которые задает дошкольник. «Почему асфальт твердый? Почему камень падает вниз, а пушинка летит вверх? Почему небо голубое?» Зная особенности детского видения мира, взрослый не станет отмахиваться от этих вопросов, но и не станет давать на них «истинные», научно обоснованные ответы. Скорее, он ответит на них в фантастической, сказочной форме, и тем самым введет их в мир детского сознания не вопреки, а согласно его собственным, внутренним законам.
Зная эти законы, мы понимаем, что анимизм, артификализм, феноменальность (опора не на внутренние, а на внешние, наглядные связи вещей) — не только «недостатки», но и достоинства детского мышления. Именно они помогают ребенку справиться с избытком информации при недостатке знаний, объединить разнообразные и непонятные явления в единое, пусть и временное, целое, короче — по-своему понять этот мир.
На этом наше путешествие в историю детского анимизма можно было бы и закончить. Но остается еще один — и притом важный — вопрос: какова роль магической практики в жизни ребенка? Не в экспериментах, а в повседневной жизни? Понятно, например, что овладение новыми орудиями и предметами ребенку необходимо, оно готовит малыша к жизни, труду. А зачем ему обращаться к магии и волшебству? Причем не только в сказке, игре, фантазии, но и в обычной жизни? И упорно, вплоть до 9 лет, верить в действенность магической практики? Вот что требует объяснения!
Конечно, можно было бы считать веру в магию простыми издержками формирования у ребенка научного мышления (вроде стружек, остающихся от хорошо выточенной детали). Например, можно видеть в ней результат «слияния» ребенка с миром, неспособности различить «свое» и «чужое», «Я» и «не-Я». Такое объяснение снимает вопрос «зачем?». Оно лишает анимизм самостоятельного значения, превращая его в любопытный психологический казус.
Однако в психике нет ничего случайного, не существует «отработанной руды», «отходов», «стружек». Все, что появилось в психической жизни — пусть самое странное, необычное,— имеет для человека какой-то смысл. Проникнуто тайным значением и необходимостью. Вероятно, есть такой смысл и у детской магической практики — стремления непосредственно, словом и мыслью, воздействовать на предмет, заставлять его подчиняться. В чем же этот смысл?
Трудно, очень трудно ответить. И все же, думая над этим, я вспоминаю один случай из жизни 4-летнего ребенка, который мне довелось наблюдать. В этом возрасте у Алеши появился ночной страх — обычное для детей 3—5 лет явление. Ребенку стало казаться, что, когда он ложится спать, из темноты выходит чудище — «бамзелья» (и название ведь сам придумал!). Намерения у чудища самые серьезные — напугать, а то и съесть малыша. По словам ребенка, «бамзелья» (мальчик рисует ее то как нечто, похожее на спрута, то как фигуру, напоминающую робота) обладает весьма любопытными свойствами. С одной стороны, чудище вполне умещается на кровати рядом с малышом, с другой — может проглотить и его, и дом, и весь город. Чудище нельзя убить, от него невозможно спрятаться, плотно закрыв окна и двери («Оно все равно проникнет, оно же волшебное!»), нельзя схватить рукой («Рука через него проходит»). Да и вообще как с ним бороться — ведь оно «обо всем догадывается!». Не успеешь подумать о защите, как оно уже узнает об этом и принимает свои меры.
Итак, перед нами типичный продукт детской фантазии, каким-то образом проникший в сферу обыденной жизни. Ставший для ребенка не сказочным, а вполне реальным существом. В этом нет ничего удивительного. Ведь мы установили, что у детей 4—5 лет граница между сказкой и реальностью существует лишь на словах, к тому же она неустойчива.
Терроризируемый своей фантазией, малыш часто не мог заснуть, лишь присутствие взрослого и приглушенный свет помогали ему. Понятно, что все попытки взрослых разубедить мальчика в существовании чудища были напрасны.
Но вот прошло 6—7 мес., и ребенок сам изобрел способ борьбы с «бамзельей». И притом очень простой. Ложась спать, он скатывал край простыни в трубочку и, держа ее в руке, засыпал. Малыш был убежден, что пока трубочка в руке, «бамзелья» не придет. Там, где были бессильны стены и запоры, вполне сгодился край простыни. Но и этот способ имел свои недостатки: засыпая, ребенок расслаблял руку, магическое оружие выскальзывало, простыня распрямлялась… Он незамедлительно скатывал ее снова — и так по нескольку раз. Но усовершенствовать метод — уже дело техники. Стоило нам предложить ребенку вместо скатанного края простыни круглую палочку, и проблема была решена. Сжав палочку в руке, ребенок спокойно засыпал. Постепенно, к 5 г., страх исчез так же внезапно, как и появился.
Нетрудно видеть, что описанный случай — яркий пример детской магической практики. Подобно волоску из волшебной бороды старика Хоттабыча, круглая палочка дает ребенку оружие — средство воздействия на вышедший из-под контроля образ его фантазии. И притом единственно возможное средство. Ведь «взбунтовавшийся» образ, прорвав границу обыденной реальности, остается неподвластен ее законам и неуязвим для ее собственного оружия.
А не в этом ли состоит роль детской магии? Обуздать образы, рожденные фантазией, сказкой, сновидениями, «нелегально» проникшие в реальную жизнь, ставшие для малыша не придуманным, а реальным явлением; защитить ребенка от их преследования, а то и выдворить их назад, за границу обыденной жизни.
Откуда эти взбунтовавшиеся образы, эти непрошеные гости? Может быть, это патология? Нет. Явление нормальное и даже неизбежное. Вспомним офорт Франсиско Гойи «Сон разума порождает чудовищ». Спящий человек, окруженный чудовищами,— аллегория противоречивости человеческой фантазии. Рождая светлые образы красоты, истины и добра, фантазия неизбежно порождает и то, что им противоположно,— странные и отталкивающие образы зла. Правда, у здорового взрослого человека подобные чудища изгнаны за пределы обыденной реальности. А иногда — и за пределы сознания. Но они могут выплывать, как только разум погружается в сон.
А у ребенка? Ведь и малыш, в какой бы атмосфере тепла, любви и душевной чистоты он ни рос, неизбежно знакомится с антиподами истины, добра, красоты. С добром, но и со злом. С красотой, но и с безобразием. И дело тут не в недостатках воспитания. Дело в самой структуре человеческого сознания. В его контрастности, «амбивалентности»: «А» предполагает «не-А», плюс предполагает минус, а добро предполагает зло. И пусть мы раскрываем ребенку мир лишь с одного полюса — истины, добра, красоты. Будьте уверены — другой полюс он обнаружит сам.
А это значит, что фантазия малыша неизбежно, волей-неволей, породит не только положительные, но и отрицательные образы. Образы, вызывающие страх. Взрослому они не опасны — разум прочно удерживает их за границами реальности. Иное дело ребенок. У него эта граница неустойчива. Сказочный злодей, фантастическое чудище могут прорваться в обыденную жизнь, приобрести для малыша статус реальности и притом остаться недоступными для обычных средств воздействия. Вот тут-то и приходит ребенку на помощь магическая практика.
Да и только ли маленький ребенок прибегает к подобным средствам? А взрослый? Когда мы думаем о чем-то очень важном для себя — смерти, несчастье, болезни близких, разве не совершаем мы, полушутя, полусерьезно, магические действия (плюем через плечо, стучим по дереву) ? Пусть мы относимся к ним с улыбкой, но все же это единственное «средство» хоть как-то повлиять, когда все обычные меры неэффективны. Хоть в какой-то степени уберечь свою жизнь от трагической случайности, неизлечимой болезни. «Застраховаться» там, где обычная страховка бессильна. И тогда мы слегка приоткрываем границу, отделяющую нашу обычную жизнь от фантазии, сновидения, игры — от тех сфер психической реальности, в которых «живет» волшебство.
Что едят мысли?
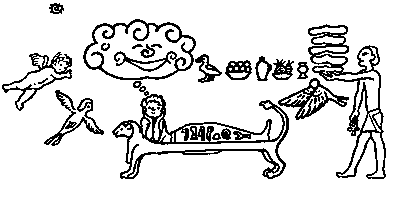
Мы рассмотрели проблему детского анимизма. Установили, когда и как в сознании ребенка сливаются субъективное и объективное, психическое и физическое. Когда и как возникает граница между ними. Как и почему она может быть нарушена, какими средствами восстановлена. При этом мы не очень задумывались над тем, по каким признакам отличает ребенок субъективное от материального, психическое от физического, духовное от телесного. Какой смысл и значение вкладывают в эти понятия дети разного возраста? Настало время пристальнее взглянуть на этот вопрос.
Но прежде подготовимся сами. Припомним, по каким признакам мы различаем эти понятия. Обратимся еще раз к маленькой героине сказки Льюиса Кэрролла.
«Она огляделась и принялась думать о том, как бы незаметно улизнуть, как вдруг над головой у нее появилось что-то непонятное. Сначала Алиса никак не могла понять, что же это такое, но через минуту сообразила, что в воздухе одиноко парит улыбка.
— Это Чеширский Кот,— сказала она про себя.— Вот хорошо! Будет с кем поговорить, по крайней мере!
— Ну как дела? — спросил Кот, лишь только рот его обозначился в воздухе.
Алиса подождала, пока не появятся глаза, и кивнула.
— Отвечать сейчас все равно бесполезно,— подумала она.— Подожду, пока появятся уши — или хотя бы одно!»
Да, то, что произошло, поистине удивительно! Еще нет в воздухе самого Кота, нет головы, нет даже рта — но есть улыбка! Удивляет, конечно, не то, что кот умеет улыбаться, и даже не то, что улыбка, будучи явлением эмоциональным, психическим, отделилась от своего «материального носителя» — рта. Удивляет, что улыбка находится в определенном месте и что ее можно увидеть! Такое необычно даже для сказки.
Вот мы и столкнулись с первым важным различием телесного и психологического: любая телесная, материальная вещь обладает положением в пространстве, имеет свое место. Психическое же явление (в том числе эмоциональные состояния радости, гнева, печали) пространственными свойствами не обладает. Мы можем точно сказать, где в данный момент находится наше тело, голова, мозг… Но где находится наша радость, наши мысли, наше воображение?
Остальные различия установить проще — они вытекают из первого. Все, что имеет место, имеет и форму, цвет, может передвигаться в пространстве (само или с помощью внешней силы). Живое тело может питаться — тоже материальный, физический процесс. Все, что находится в пространстве, можно разделить (разрезать, разрубить, разорвать). Наконец, все материальные вещи можно воспринять зрением или осязанием — увидеть, потрогать. А можно ли увидеть мысль? Какого она цвета, формы? Можно ли ее передвинуть? Разрезать пополам? Эти вопросы кажутся нелепыми. Нелепыми именно потому, что субъективные, психические явления такими свойствами не обладают. Ведь как это ни странно, но нельзя увидеть даже сновидение. Не свое, конечно, а чужое, увидеть со стороны — так, как мы видим экран телевизора. Да и собственное сновидение мы, в сущности, не видим. Мы в нем живем.
Но покажутся ли эти вопросы нелепыми малышу? Ведь понимать, осознавать их нелепость — это и значит уметь различать субъективное и материальное, психическое и физическое, духовное и телесное. Различать мир вещей, мир природы и мир человеческой субъективности.
А что, если попытаться в доступной ребенку форме прямо задать ему эти вопросы? Давайте попробуем. Пусть физическим объектом будет тело самого ребенка, психическим — его мысль. Правда, не каждый дошкольник знает, что такое мысль, зато каждый малыш использует слово «Я». А ведь Я — не только мое тело, но и мои мысли, переживания — мой субъективный, личностный мир! Итак, начнем.
1. Скажи, ты есть, ты существуешь, да?
2. А какой ты — можешь показать?
3. Значит, твое тело — это ты? А твоя рука — это ты? А твой палец — это тоже ты?
4. А твое Я — это ты?
5. А твое Я и твое тело — это одно и то же или нет? Чем же они отличаются?
6. Скажи, твое тело можно нарисовать. Какое оно — круглое, квадратное или продолговатое?
7. Твое Я можно нарисовать? Оно какое — круглое или квадратное?
8. Твои мысли можно нарисовать? Какого они цвета?
9. Твое тело где сейчас находится? Сидит на стуле?
10. А твое Я где находится? Оно тоже сидит на стуле?
11. Твое тело можно подбросить в воздух (раскачать на качелях)?
12. А твое Я (твои мысли) можно подбросить в воздух?
13. Сколько весит твое тело?
14. А твое Я (твои мысли) сколько весит?
15. Что ест твое тело?
16. А что ест твое Я?
17. А что едят твои мысли?
18. Твое тел о можно увидеть, потрогать?
19. А твое Я можно потрогать?
20. А твои мысли можно потрогать?
21. Скажи, от тела можно отрезать кусочек?
22. А от Я (мыслей) можно отрезать кусочек?
Читатель видит: первые 4 вопроса вводные. Их цель — завязать беседу, настроить ребенка на тему нашего диалога. Суть дела выясняется в ответах на вопросы 5—22: относит ли ребенок телесные свойства также и к духовным явлениям? Зададим эти вопросы детям разного возраста — от 4 до 13 лет.
И сразу — интересный результат. Оказалось, что малыши (4 г.) в большинстве случаев не выделяют в себе телесного и психического. Для них Я — это тело, и ничего больше. Такие же ответы дает часть б—6-летних детей. Но большинство из них и все школьники не согласны: Я и тело — это разное. Тем более — мысли и тело.
А теперь дальше. Относят ли дети физические свойства (форма, местоположение, движение, масса, питание, делимость, доступность органам чувств) к своему телу? Безусловно. Все без исключения и самым решительным образом. Однако эти же свойства многие из них относят и к явлениям психическим.
Так, по мнению малышей 4—5 лет, форму имеет не только тело, но также Я и мысли. Они утверждают, что Я и мысли можно нарисовать, и даже указывают их форму (цвет): Я у них «круглое», «квадратное», «длинненькое», мысли «синие», «красные», «розовые». Зато дети постарше (6 лет) и все школьники уверенно отрицают, что Я и мысли можно нарисовать. Одни говорят, что Я — слово, а слово невидимо («Я — это буква, а ее сказать можно, но нельзя нарисовать»; «Я — я говорю, его нельзя нарисовать, нельзя осуществить на бумаге»). Другие уточняют: Я не существует, значит, не может быть изображено («Я эти всякие не живые, а игрушечные, игрушечных нету, только можно сказать Я, а так их нет, и буквы только есть, и все»). Наконец, третьи дают самый зрелый ответ, уловив в Я особое, субъективно-психическое начало («Не нарисуешь, потому что ты себя с Я можешь показать в хороших поступках и в плохих»; «Я — это мои интересы, как я могу их нарисовать?»). Так же обосновывают дети невозможность нарисовать мысли: мысли не нарисуешь, потому что либо их нет, либо они есть, но невидимы («Они вроде шапки-невидимки»; «Они в голове, а голова не дырявая»), либо вообще недоступны для других людей («Никто не знает, о чем я думаю»; «Про то, что я думаю, человек не знает, который рисует»).
Никто из детей не сомневался, что тело находится в определенном месте («Сидит на стуле здесь, в помещении»). Однако для очень многих детей местом обладало и Я («Во рту»; «В голове»; «В груди»; «Вокруг меня»). Все же большинство — особенно школьники — отказались приписать Я свойство местоположения. Аргументы были похожи: для одних Я просто не существует, поэтому оно не может где-то находиться («Я нигде»; «Пока не скажешь — его еще пока и нету») . Для других Я — в слове, в голосе, в имени, а значит, места не имеет («Я находится у меня в мысли»; «Это мой звук»).
Все единодушно приписали телу свойства движения, перемещения. Да, его можно подбросить в воздух, раскачать на качелях. А Я? Не только большинство малышей, но и большая часть школьников ответили: «Да, можно». Правда, только вместе с телом, в котором Я как бы упаковано («Я только с телом можно подбросить, а без тела нельзя»). Некоторые полагали, что Я перемещается вместе со звуком («Когда я его говорю, я его подбрасываю в воздух»; «Можно подбросить, когда я прихожу в дом и кричу Я, и произносится эхо»). Все же большинство школьников отрицали возможность двигать Я. Почему? Да потому, что оно «не существует» («Нет, его никак нельзя двигать, потому что его нету, кажется, что оно есть, а вообще его нету») или существует, но непосредственно, невидимо («Это что-то такое… нефизическое, а такое… необыкновенное, невидимое»). Двое семиклассников дали зрелый ответ: Я можно перемещать, но не в пространстве, а мысленно («Если я буду думать, то можно. Например, я буду сидеть и думать, что я лечу»).
Больше половины всех детей уверены, что Я обладает весом. Одни считают, что Я весит «как тело». Другие чувствуют: что-то тут не то, но отказаться от идеи веса не в силах. Они идут на компромисс: Я весит, но очень мало («Как пушинка»). Так думают в основном дошкольники. Школьники начинают понимать: Я и вес — категории несовместимые. Несовместимые потому, что Я «не существует» («Вообще нисколько не весит, потому что оно не существует, его можно только произносить»; «Ничего не весит, его нет»; «Стрелка весов не сдвинется, его ж незаметно») или существует, но нематериально («Я — это разговор, оно вообще не весит»; «Я — это пространство, его нельзя положить на весы»).
А как быть со свойством питания? И тут самые маленькие собеседники (4—5 лет) не отличают телесное и духовное: Я и мысли едят, подобно телу. Что едят? То же, что и тело: овощи, фрукты, макароны. Но уже старшие дошкольники (6 лет) и, конечно же, школьники с этим решительно несогласны: как же Я может есть, если оно «не существует» («Не ест, потому что нереальное оно, не настолько реальное, как мое тело»), если оно не живое («Ничего не ест, это ж не человек — мое «Я»; «Это не живой предмет, оно не может есть»), если оно нематериально («Ничего не ест, это буква»; «Это слово, а слово не кушает»)? По тем же причинам не могут есть и мысли: либо их «нет вообще», либо есть, но они «неживые».
Следующие свойства материальности — доступность органам чувств, зрению и осязанию, а также делимость. Малыши 4—5 лет полагают, что Я (мысли) можно увидеть и потрогать, как и тело. Старшие дошкольники и школьники не согласны с этой точкой зрения. Аргументы приводятся разные. Одни считают, что Я скрыто от нас под поверхностью тела («Оно у меня в голове»; «Человек же не раскрывается, ну как его потрогать?»), другие — что Я не существует («Нельзя, потому что его нет на свете»), третьи — что Я нематериально («Нет, слово не трогают, его не видно и не слышно, как оно пробирается по рту»). Те же причины, по их мнению, препятствуют нам увидеть и потрогать мысли: они либо скрыты за поверхностью тела («Их нельзя потрогать… что же мне свою голову разрезать?»), либо не существуют («Они не существуют, это только представление»). Ни Я, ни мысли невозможно разделить — так думают уже 5-летние («Нет, это слово, а от слова —я-я-я- видите? — ничего не отрежешь»; «Нет, его пока будешь искать — а оно невидимое — всю операцию пропустишь»; «Ну если, например, палец отрезать, то я без пальца останусь, а Я-то при мне все равно будет»; «Я останусь Я»; «Можно абстрактно отрезать, как-то уничтожить часть души, что-ли, ну, например, унизить человека»).
Вот мы и рассмотрели, как распределяют дети физические свойства между телом и психическими явлениями. Кое-что прояснилось. Как мы и думали, все дети считают свое тело полноправным обладателем физических свойств. Сложнее — с явлениями психики. Младшие (4—5 лет) полагают, что и этим явлениям присущи телесные свойства. Дети постарше (6-летние и школьники) постепенно освобождают Я и мысли от физических свойств.
Итак, полдела сделано. С физическими свойствами мы разобрались. А как быть со свойствами самих психических явлений? Ведь субъективное, психическое — не просто негатив телесного. Не просто отсутствие физических свойств, но и присутствие каких-то своих, специфических качеств! И их немало: ощущение, восприятие, память, мышление, личность, эмоции —вот аспекты, стороны, позитивные свойства психики. Выберем некоторые для нашей цели. Возьмем, например, знание, мышление, воображение, восприятие. Попробуем выяснить, к чему—телу или психическим явлениям — относят эти понятия дети разного возраста. Предложим детям снова ряд вопросов.
1. Ты знаешь какое-нибудь стихотворение? А кто знает это стихотворение: твое Я или твое тело (твой мозг или твои мысли)?
2. Ты сейчас думаешь о чем-нибудь? А кто это думает: твое Я или твое тело (твой мозг или твои мысли)?
3. Ты сейчас можешь вообразить слона? А кто сейчас вообразил слона: твое Я или твое тело (твой мозг или твои мысли)?
4. Ты меня видишь? Это видит твое Я или твое тело (твой мозг или твои мысли)?
Оказалось, что многие испытуемые всех возрастов и эти психические процессы считают свойствами тела (головы, мозга). Они полагают, что «видят глаза, а они относятся к телу», «воображают глаза, они относятся к голове, а голова — к телу», «видит мозг, мысли не могут видеть, у них глаз нет». Некоторые дети резонно замечают, что, раз духовные явления не существуют, они не могут ни думать, ни видеть, ни воображать («Знает мозг, мысли не могут знать, потому что это воздух, а воздух ничего не знает»; «Видит мозг, а мысли не могут, потому что они не физические, у них глаз нету»). Наконец, третья группа детей считает психические свойства порождениями мозга («Думает мозг, мысли не думают. Они выходят, когда их придумывает мозг»; «Знает мозг, а не мысли. Мозг — он живой, а мысли, они… их только воспроизводит мозг, они не живые»).
Немало было и тех, кто стоял на обратной точке зрения («Думают мысли, тело не может, и мозг не может, потому что мозги — это не мысли»). Почему же тело, мозг не могут знать, воображать, видеть? Тут большинство были единодушны: психические явления (Я, мысли) активны, они могут что-то делать (думать, видеть), а тело (мозг) — пассивно и, значит, активными свойствами не обладает («Знают мысли, мозг нет, потому что мозг — это косточка»; «Думает мое мышление, мозг не думает, потому что мозг — это то же самое тело, отдел там, чтобы как-то в себе сохранить это мышление, чтобы оно не по всему телу расходилось»).
Интереснее всего были ответы тех детей, которые не соглашались признать психические процессы свойствами только тела или только духовных явлений. И то, и другое — и мозг, и мысли — вот что порождает знание, мышление, воображение («Знал. Я весь знал!»; «Ну, вся голова, мысли и мозг думают вместе»).
Итак, для дошкольников характерны крайности: мышление, знание, воображение дети относят либо к телу, либо к психическим явлениям. У школьников появляется более зрелый взгляд: психическая деятельность — продукт тела, мозга и свойство субъективных образований (Я, мысли). Тут речь идет уже не только о различии тела и духа, мозга и психики, но и об их связи. Этот вопрос заслуживает специального рассмотрения.
В самом деле, до сих пор мы пытались выяснить, как суждения ребенка отражают понятия телесного и психического. Но понятия — одно, а живой человек — другое. Понятия физического и психического в корне различны, это — противоположности. Человек же, обладающий реальным телом и реальной психикой, един и неразрывен. На бумаге, в теории, такие явления, как Я и мысли, вполне могут обходиться без тела и мозга. То же в сфере сказки, игры, фантазии — вспомним улыбку Чеширского Кота или Дух Света из «Синей Птицы». Иное дело — обыденная реальность. Попробуйте представить реальное Я без тела, мысли без мозга; улыбку без лица. Тут связь тела и психики очевидна: ранение — явление физическое, боль от него — явление субъективное. Болезнь тела отражается на наших духовных, психических состояниях. Вместе с телом гибнет и наша психика, наша субъективность. Когда и как начинает ребенок понимать эту связь? Попробуем выяснить.
1. Ты болел когда-нибудь? А кто болел: твое тело или твое Я? А Я может болеть (мысли могут болеть)?
2. А как ты думаешь, когда тело умирает, Я остается или умирает вместе с ним (мысли остаются или умирают)?
3. Значит, когда тела не станет, Я (мыслей) тоже не будет или оно останется?
4. Скажи, твоё тело можно оцарапать?
5. А твое Я (твои мысли) можно оцарапать?
6. Когда тебя царапает кошка, кто чувствует боль — твое Я (твои мысли) или твое тело? Почему? А Я (мысли) может чувствовать боль?
7. А если ты спишь и не видишь снов, твое Я (твои мысли) существует или нет?
Итак, болезнь. Явление телесное, физиологическое. Это знают все наши собеседники. Но странно: лишь немногие (да и то в основном малыши) признают, что болезнь влияет на наше психическое, душевное состояние. А если и признают, не могут объяснить свое мнение. Большинство же детей эту связь решительно отрицают. Почему? Да потому, что болезнь — процесс материальный, а Я и мысли — нематериальны («Я не может болеть, это же слово»; «Болеет тело. Я — это звук, а звуки болеть не могут»). Старшие дети уточняют: болезнь тела — одно, душевные переживания — другое («Я может болеть. Если человеку нанесена душевная рана, то он будет переживать»).
С этим — ясно. А как с физической болью? Тут уж, кажется, связь тела и психики очевидна: ранение — процесс физический, боль — субъективный. Увы! Большинство малышей и почти все школьники отрицают и это. Аргументация та же («Чувствует боль тело, Я нет, слово не чувствует»; «Боль чувствует тело, потому что кошка царапает за кожу, а Я остается и оно невидимое»; «Мозг может чувствовать боль, если ударишь там сильно, а мысли нет, это пространство, мышление»). Правда, часть детей признали, что связь между ранением и мыслью все же есть, но какая. Дети считают, что мысли не испытывают боли, но могут лишь думать о ней, равнодушно отражать ее в своем «зеркале» («Мысли не могут чувствовать боль, они только думают о боли, они представляют себе боль»). Видно, что для наших собеседников эта связь чисто внешняя, случайная: ведь зеркало никак не зависит от тех объектов, которые отражает. Наконец, некоторые наши собеседники признали, что мысли могут чувствовать боль, но… не ту, не физическую, а свою собственную, душевную («Мысли… могут немножко чувствовать боль, когда ты думаешь о чем-нибудь, а не получается это у тебя. Например, я хочу стать строителем, а меня не взяли»).
Теперь обратимся к последнему вопросу (вопрос 7). Вопрос непростой. В самом деле, как на него ответить? «Все зависит от точки зрения»,— скажете вы. И верно: для того, кто спит и не видит снов, конечно, нет никаких мыслей, чувств, осознанных ощущений. Нет никаких психических, субъективных явлений. Но ведь для него нет и тела. И собственное тело, и собственная психика для человека, спящего «мертвым сном», перестает существовать. А если мы сидим рядом и смотрим на спящего? Для нас, разумеется, есть его тело: вот оно. А мысли, чувства Я спящего? О них мы можем только гадать… Итак, мы отвечаем на этот вопрос «нет». И при этом отнюдь не грешим против ясного факта — связи тела и мыслей. Ведь для спящего нет ни того, ни другого. А как выпутаются из этой головоломки наши собеседники?
Большинство малышей и даже часть школьников не сомневаются: раз существует тело, значит, есть и мысли, даже ночью, если человек спит без сновидений («Я существует, оно всегда существует, днем и ночью»; «Мысли существуют. Они у меня должны оставаться. Если они у меня перестанут оставаться, то как же я буду о них в следующий раз думать?»). Старшие дошкольники и школьники уже признают, что субъективных психических явлений во время сна нет, ведь единственный способ их существования во сне — сновидение («Я не существует, потому что, когда я сны вижу, я там о чем-то думаю, а когда я крепко сплю — я ничего не думаю»; «Когда снов не видишь, значит, и мыслей нету»).
Разумеется, все дети были согласны, что во время сна тело их существует («Никуда не девается»). Но тогда выходит, что тело наших собеседников остается без «психики»? Похоже, что так. Но почему? Ответ очевиден, дело — в различии позиций. Для малышей есть лишь одна позиция — позиция внешнего наблюдателя. Рассуждая, ребенок не пытается представить себя спящим. Он как бы сидит рядом с собой спящим. Поэтому у него все «логично»: есть тело, есть мысли… Правда, при этом мысли неизбежно превращаются в «материальное» — отпечатки в мозгу, но малыши этого не замечают. Старшие думают по-иному. Они переходят в позицию спящего, утверждают, что, раз нет сновидений, нет и мыслей. Но полностью стать на эту точку зрения нашим испытуемым так и не удается. Признать, что для спящего «мертвым сном» не существует и тела, они не могут. О мыслях спящего дети судят «изнутри», о теле — «извне». Отсюда и парадокс — живое тело без субъективных психических явлений.
А теперь «перевернем» проблему: могут ли психические, субъективные явления существовать без тела (вопросы 2—3)? Остаются ли Я и мысли человека после гибели тела? Казалось бы, ответ сам собой разумеется. Ничуть не бывало. По мнению большинства самых маленьких испытуемых (4 г.), духовные явления вполне способны обходиться и без тела. Так думают не только малыши, но и некоторые старшие дошкольники и даже школьники. Аргумент прост и как будто логичен: если Я (мысли) нематериально, значит, оно не может умереть («Я остается, а тело умирает»; «Я всегда остается»; «Я остается, оно не может умереть, потому что его нету. Оно переходит к другому человеку, к соседу его, а может быть, к незнакомому перешло Я»; «Умирать оно не умрет, а уже его никогда не услышишь, это Я»; «Я остается, в голове».— «Но ведь и тело, и голова — все это умирает?» — «Ну да, а Я… если когда человек сгниет, Я берет и вылетает».— «Ну, а куда же оно девается?» — «Просто превращается в воздух, и все… или в ветер, и все… и нету его»).
Занятные рассуждения? Но все же так думают меньшинство. Большинство старших дошкольников (5—6 лет) дают правильный ответ: Я умирает вместе с телом («Я остается в букваре, а настоящее Я умрет»; «Умрет вместе с ним. Потому что Я — это человек, который умирает. Мысли тоже умирают, потому что он умирает и его мысли не могут уже думать»). А школьники даже уточняют: с телом умрет личный, субъективный мир. Если же мысли и Я воплотились в слово, идею, они остаются («Мысли… если он их записывает, то остаются»; «Мысли остаются, вот как Циолковский. Он придумывал ракеты, он умер, а дальше Королев продолжил. А чувства умрут, потому что он не может ощущать»).
А теперь обобщим результаты нашей беседы. Что же мы видим? С одной стороны, чем старше дети, тем яснее они осознают противоположность между телом и духовными явлениями. Для самых маленькие Я и мысли обладают свойствами тела: формой, местом, делимостью, способностью питания… Их можно увидеть и потрогать. И наоборот, свойства психических явлений — знание, воображение, мышление, восприятие — приписываются телу. Постепенно, с возрастом ребенка, психические явления как бы сбрасывают телесную оболочку. Для большинства школьников они уже не обладают свойствами физических тел (формой, делимостью), недоступны нашим органам чувств. Даже болезнь и повреждение тела уже не затрагивают субъективных явлений. Как бы воспарив над физическим миром, вырвавшись из телесного плена, духовные явления обретают самостоятельность. Подобно зеркалу, они отражают то, что происходит в теле, но это происходящее «лично» их никак не затрагивает. Они могут «исчезнуть», оставив тело в состоянии глубокого сна. Они становятся «нефизическими», «нематериальными». Но не только. Постепенно Я и мысли обретают и свои собственные свойства. Они «воспринимают», «мыслят», «знают», «воображают». Они включают в себя «круг интересов», «характер», «душу». Могут по-своему «болеть» («за спортигру», «от обиды», «от унижения») .
С другой стороны, с возрастом ребенок все глубже постигает факт единства, неразрывности тела и духовных явлений. Для самых маленьких гибель тела еще не означает гибели Я и мыслей. Если Я — это «буква», «воздух», «ветер», «пространство», если Я в физическом смысле не существует, то как оно может умереть? Смерть, разрушая тело, проходит как бы сквозь Я, не причиняя ему вреда. По-иному смотрят на это школьники. Они почти единодушны: гибель тела приводит к гибели Я и мыслей. Правда, только «личного Я» и «личных мыслей». Если они стали «сверхличными» — «опредметились» в слове, книге, открытии,— они бессмертны. Но все же «личные», субъективные психические образования гибнут.
Таким образом, перед нами противоречие. Как же так? С точки зрения малышей, Я и мысли обладают всеми телесными свойствами и в то же время могут быть бессмертны. Как птичка из клетки, вылетают они из тела умершего. И наоборот, для старших духовные явления, превратившись во что-то совсем нефизическое, нематериальное, независимое от болезней и повреждений тела и даже могущее оставлять его на время сна без присмотра, вместе с тем существует лишь до тех пор, пока живет тело. Казалось бы, все должно быть наоборот? Попробуем разобраться.
Но сначала спросим себя: о чем идет речь? О теле и мыслях как научных абстракциях, понятиях, представлениях? Или о теле и мыслях реального, живого человека? Мы уже говорили, что это разные категории. Я могу сколько угодно рассуждать о «мышлении вообще», и такое «мышление вообще», разумеется, не зависит от тела. Ни от моего, ни от чьего-либо другого. Я могу заболеть, погибнуть — «мышлению вообще» это безразлично. Оно-то останется — до тех пор, пока на земле будет жив хоть один человек, способный задуматься о мышлении. Но есть и другое мышление — мое собственное. Вот оно зависит от меня, от моего тела. Страдает, когда болеет тело, и гибнет вместе с ним. Не тут ли кроется разгадка противоречия в суждениях детей?
Похоже, что именно тут. Для малышей Я, мысли — это представления. Это «Я вообще», «мысли вообще». Это «слово», «буква», «воздух», «разговор». Правда, маленькие дети не могут как следует разграничить представления о теле и о субъективных явлениях, смешивают их свойства. Зато это хорошо умеют старшие дошкольники и школьники. Собственно, когда мы задаем вопрос, можно ли разделить (взвесить, подбросить и т. п.) Я, мы задаем вопрос о понятии. Когда же мы спрашиваем, останется ли Я (мысли) после гибели тела, речь идет о другом. Не о «Я вообще», а о «личном Я». Вот тут-то сознание малышей и подменяет «личное Я» на «Я вообще». Мысли, как мысли реального человека, на «мысли вообще». Малыш не осознает, что вопрос изменился по содержанию: из вопроса о соотношении понятий Я и тела превратился в вопрос о соотношении реальных явлений. А отсюда уже неизбежен вывод о бессмертии Я. Ведь понятия-то действительно бессмертны. Вот и получается, что Я и мысли обладают свойствами материальной вещи и в то же время не подвержены гибели. Такой подмены не происходит у старших детей. Они ясно осознают, когда речь идет о «Я вообще», а когда о «реальном Я». Отсюда второй мнимый парадокс: Я и мысли в корне отличны от тела, нематериальны и — гибнут вместе с телом.
Итак, что же дали наши беседы? В предшествующих главах мы обнаружили, что к 10 г. у ребенка исчезает вера в волшебство. Не только на словах, но и на деле. В сознании возникает грань между реальным и сказочным, миром «физики» и миром субъективной, психической жизни. В этой главе мы сделали попытку пойти чуть дальше — обратить взор ребенка от мира природы на его собственный внутренний мир. И увидели, что тут происходит работа ничуть не менее интенсивная. На грани дошкольного и школьного детства у ребенка возникает все более четкое представление о своих субъективных процессах, об их соотношении с телом.
И все же мы приподняли лишь краешек «занавеса», за которым скрыта грандиозная работа детского сознания. Раздвинуть занавес шире — задача не из легких. Но слишком заманчивы перспективы. Соберемся же с силами — и вперед!
Истина — в сомнении
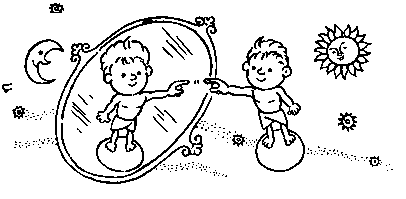
«Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь». Трагедия непонимания, о которой так проникновенно сказал Тютчев, может разделять не только взрослых. Всегда ли мы можем и хотим понять своего ребенка? И дело тут не в недостатке любви. И даже желания. Одного желания мало. Дело в кардинальном различии точек зрения, взглядов на мир. Различии, обусловленном возрастом и опытом.
И все же занавес непонимания, разделяющий сознание ребенка и взрослого, проницаем. В нем есть отверстия и просветы, сквозь которые ребенок и взрослый протягивают друг другу руки. Это и позволяет нам обучать малыша, воспитывать. Иначе дети и взрослые просто не смогли бы общаться. Что же объединяет их?
Разумеется, мир, в котором они живут. Мир людей и созданных ими предметов. Мир природы, мир языка, мир общения. Правда, видят и понимают они его по-разному. Слово «стол» имеет для малыша, играющего под столом, и для взрослого, пишущего на столе, разный смысл. Слово «мама» хотя и относится к одному и тому же лицу, имеет разный смысл для ребенка и для его отца. И все же это один и тот же мир. И значения слов, и опыт ребенка и взрослого, и восприятие этого мира в чем-то согласуются. Это и дает возможность большим и маленьким понимать друг друга.
Но предположим, слово не может помочь — ребенок еще не владеет им. Вот взрослый показывает ему незнакомый предмет и называет: «Часы». Ни механизм, ни социальное назначение предмета годовалому малышу неизвестны. Не исключено, что и форму предмета, и звук, издаваемый им, и цвет его ребенок воспринимает чуть-чуть иначе, чем взрослый. А что же общего, объединяющего в их восприятии? Что позволяет нам думать, будто взрослый и ребенок общаются по поводу одного и того же предмета? Действуют с одним и тем же объектом?
Вначале, пожалуй, мы не располагаем никакими данными, кроме… Кроме уверенности и ребенка, и взрослого в том, что он — этот предмет — существует. Каким бы разным он ни казался обоим, но он есть — вот он! Этого уже достаточно, чтобы сделать предмет основой общения, обучения и совместной практики.
Итак, уверенность ребенка в существовании вещей, в существовании мира, в существовании самого себя и других людей и такая же уверенность взрослого — вот та исходная первооснова, на которой строится сложное здание человеческого общения и человеческой практики. Ведь, для того чтобы объяснить что-то другому и самому себе, надо, по крайней мере, быть уверенным в том, что оно — это «что-то» — объективная реальность. Уверенность в собственном бытии, в бытии окружающего мира — исходная точка и начало всякого объяснения, исходная истина, без которой немыслимо никакое общение, объяснение, знание.
Возможно, кому-нибудь из читателей это покажется странным. «Разве может нормальный человек, тем более ребенок, сомневаться в этом? А раз факт несомненен, то не стоит и обсуждения». Увы, это не так! Не так по той простой причине, что никакая уверенность не рождается вместе с нами. Все, в чем мы уверены, добыто трудом нашего сознания, также и уверенность в нашем собственном существовании и существовании реального мира…
Однако этот вопрос требует серьезного подхода. Он затрагивает проблему, решение которой — предпосылка для всякого дальнейшего рассуждения о мире, психике, мышлении, проблему истины и существования. Проблему, на первый взгляд далекую от сферы интересов ребенка. Но только на первый взгляд. Ведь ребенок живет и действует в мире. Что в мире существует, а что нет? Что есть реальность, а что иллюзия? Что правда, а что ложь? Без ответа на данные вопросы — пусть неосознанного — невозможно никакое, в том числе и детское, мышление. Никакое общение, никакая практика. Попытка понять, как дети разных возрастов отвечают на них,— задача этой главы. Но сначала — краткий экскурс в историю проблемы.
Впервые со всей остротой проблему истины и существования поставил французский философ XVII столетия Ренэ Декарт. Не только ее, конечно. Декарт — великий математик, физик, автор понятия рефлекса, основатель научной психофизиологии… Но нас интересует лишь один аспект его многогранной деятельности.
Если заниматься чем-нибудь, а тем более наукой, серьезно, рассуждал Декарт, надо строить здание на прочных, незыблемых основаниях. На знании, которое было бы истинно и несомненно. В противном случае мы рискуем потерять время и силы зря: красивое здание, построенное на песке, рухнет. Где же найти такие основания? Где найти знания, в которых невозможно было бы усомниться?
Может быть, это те знания, которым нас учат в школе? Возможно. Но ведь они противоречивы. Разные теории соперничают друг с другом — какая из них верна? Конечно, каждая содержит долю истины, но в каждой можно и усомниться. А как быть с теми знаниями, которые мы приобрели и многократно проверили на личном опыте? Например, можно ли сомневаться, что у человека две руки, две ноги, туловище и голова? Что солнце круглое? Деревянный стол твердый? Казалось бы, нет, и все же… Возможно ведь и иное восприятие. Ложка, погруженная в стакан с водой, кажется сломанной. Твердый воск, расплавленный на огне, превращается в жидкость. В сновидении привычные предметы и даже наше тело могут обрести иную форму. Где же истина?
Значит, можно усомниться и в очевидном. В том, что предметы именно таковы, какими мы их видим,— ведь глаза могут обмануть. Но уж в том, что эти предметы, по крайней мере, есть, существуют, сомневаться нельзя? И это не так. Мираж в пустыне кажется настоящим озером. А что, если и весь мир, который мы видим, не более чем мираж? Чудовищная мысль? Не спорю. Но все же на минуту допустим подобное.
Итак, под сомнение взято все: полученные знания, правильность восприятия нами мира, само существование мира… что же остается? Остаемся мы! Мы, которые сомневаемся. А если и нас нет? Но вот этого уж действительно быть не может. Если мы сомневаемся (мыслим, чувствуем, делаем), значит, мы существуем! Само сомнение есть неопровержимое доказательство того, что мы есть. «В то время,— пишет Декарт,— как я готов мыслить, что все ложно, необходимо, чтобы я, который это мыслит, был чем-нибудь…» Задача решена. Истинное и несомненное знание найдено: мыслю — следовательно, существую! Этот тезис — основание, на котором можно строить что-то другое.
Что же можно на нем построить? Немало. Если есть я, значит, есть и мир — где-то же я должен быть? Если я в чем-то сомневаюсь, значит, это «что-то» существует. Я могу сомневаться в том, что солнце круглое, но то, что оно есть, несомненно. Ведь я — существующий вижу его! Продолжая свои рассуждения, Декарт приходит к выводу о неизбежности существования мира, окружающих нас предметов, других людей. Весь наш мир, пройдя через «горнило сомнения», восстанавливается. Но уже на новой основе — на основе истинного знания.
И последний вывод — о критерии истины. Что же в суждении «мыслю — следовательно, существую» есть такого, что делает его абсолютно истинным? Да ничего, кроме того, что оно ясно и отчетливо. Не нужно никаких доказательств — мы видим, знаем, что это так. Отсюда Декарт выводит критерий истины — истинно то знание, которое ясно и отчетливо, предмет которого реально существует. Ложно то, что есть иллюзия и грезы, чего в реальной жизни нет. Посередине между истинным и ложным — проблематичное знание. Гипотезы, догадки, образы фантазии — все это может оказаться истиной, а может — ложью. Отсюда и различие между реальностью и сновидением: образы реальности ясны и отчетливы, связаны между собой во времени и пространстве, образы сновидения туманны и бессвязны. Поэтому предметы таковы, какими мы видим их в состоянии бодрствования. Если же в сновидении мы видим их другими, это неистинное, проблематичное знание, порождение фантазии.
В философском плане работы Декарта стали лишь одной из ступенек здания современной научной мысли. Но есть и другой план — психологический. План развития индивидуального человеческого сознания. И тут Декарт во многом прав. По сути он лишь выразил словами то, чем сознательно или неосознанно овладевает каждый человек в ходе своего психического развития. Ведь мы же не сомневаемся, что мы существуем, что существует реальный мир? Что мы правильно видим этот мир? А если так, значит, весь цикл рассуждений Декарта в «свернутом», «упакованном» виде уже лежит в глубинах нашего сознания. Мы несем его в себе, хотя можем и не знать этого.
Вот мы и подошли к самому главному. К вопросу, в каком возрасте и как ребенок способен осознать этот цикл. Понять и обосновать несомненность своего бытия, несомненность бытия внешнего мира. Сформулировать критерий истины. Научиться отличать истинное знание от ложного и проблематичного. Как мы сможем это установить? Способ один — задать ребенку те же вопросы, которые задал себе (и нам с вами) Декарт. Конечно, в доступной малышу форме. И не будем бояться, что вопросы эти покажутся ребенку непонятными: ведь для себя он уже ответил на них. Наша задача лишь помочь ему извлечь готовый опыт из тайников сознания.
Итак, приступим. Но сначала подведем ребенка к теме нашей беседы.
1. Скажи, ты уже многое знаешь. Ты знаешь, например, как называются все предметы, которые тебя окружают? Ты знаешь, что такое мир? Что такое человек?
2. А откуда ты все это узнал? От взрослых? А ты всегда согласен с тем, что тебе говорят, или не всегда? Когда ты бываешь не согласен?
3. Ты согласен с тем, что этот стол существует, или думаешь, что его нет? Почему ты так думаешь?
4. А слон существует? А гиппопотам существует?
5. А слонопотам существует? А это создание (показывают рисунок кентавра) существует?
6. А ты существуешь или нет? Почему ты считаешь, что ты есть?
Цель этих вопросов — ввести ребенка в круг мыслей об истине и существовании. Заодно подсказать ему, что можно сомневаться в знаниях, полученных от взрослых. Выяснить, понимает ли он слово «существование», правильно ли соотносит его с разными объектами (одни объекты прямо перед ним, другие существуют реально, но в поле зрения не находятся, третьи реально не существуют). И последняя цель — обратить внимание ребенка на факт его собственного существования.
Оказалось, что дошкольники 4—6 лет почти всегда согласны со взрослыми (вопрос 2). Большинство школьников 7—13 лет, наоборот, допускают возможность сомнения. Причина несогласий — противоречия в утверждениях взрослых («Я что-нибудь в книжке прочитал, а мне говорят — это не так»; «В одной книжке пишут одно, а в другой — другое») или несоответствие этих утверждений опыту самого ребенка («Не согласен, когда говорят все уже известное, а мои сомнения не слушают»).
Теперь — о существовании объектов. Тут сомнений не было ни у кого: стол, слон, гиппопотам существуют. Слонопотам и кентавр — нет. Доказательство, что стол существует — ясность и несомненность восприятий: зрительных («Я же его вижу»; «Вот он стоит»; «На нем магнитофон») и тактильных («Я его потрогать могу»; «Если по нему ударить кулаком, он трещать будет»). Многие все же старались удостовериться окончательно: стучали по столу, трясли, трогали на ощупь. На вопрос «Почему не существует кентавр?» малыши (4—5 лет) отвечали просто, что «таких не бывает». Старшие уточняли: не бывает в жизни, но существуют в легендах, мифах, сказках, мультфильмах, на рисунках и т. п. («Это все греки выдумали, у них мифы, они верили во все это»; «Это выдумано людьми — титаны называется»). Наконец, часть детей утверждали, что сейчас таких существ нет, но когда-то давно — «в других веках», «в древние времена» — они были.
Разумеется, никто из наших собеседников не сомневался в собственном существовании. Одни объясняли лаконично: «Есть я, существую». Другие пытались обосновать ответ, ссылаясь на ясность и очевидность своего восприятия: «Я есть, потому что я вот он» («Потому что я сам себя ощущаю, трогаю»). Третьи ссылались на других людей: «Все меня видят, а если бы я не существовал, никто бы меня не видел и не слышал»; «Я с мамой всегда разговариваю»; «Меня называют, ко мне обращаются»). Интересно, что подавляющее большинство школьников в качестве доказательства своего бытия ссылались не на других людей, а на свой собственный опыт. Они есть не потому, что им так сказали, а потому, что они двигаются, прыгают, бегают, разговаривают, ходят, учатся, делают дела, трогают себя, видят себя, чувствуют себя, слышат себя и т. д. Запомним это.
Подведем итоги. Дошкольники, судя по их утверждениям, во всем полагаются на взрослых. Они не сомневаются в полученных знаниях. Почти всегда согласны со взрослыми (исключая капризы). Дети уверены в собственном существовании, но не знают, как это аргументировать. Разительный контраст с первой группой детей представляют школьники. В школьном возрасте у ребенка возникает критическое отношение к знаниям, полученным от взрослых. Появляется собственное мнение, отличное от мнения старших, растет доверие к своему опыту. Настало время «очистить» этот опыт сомнением. Продолжим диалог.
1. Ты видишь сны? А себя ты видишь во сне?
2. Значит, бывает так, что во сне ты одет, куда-то идешь, что-то делаешь, а на самом деле лежишь в кровати и спишь?
3. А бывает так, что во сне ты видишь какое-то существо, тебе кажется, что оно есть, а проснешься — ничего этого нет?
4. А сейчас ты не спишь?
5. А может быть, тебе только кажется, что у тебя есть руки, ноги, голова, что ты сейчас сидишь тут передо мной, а на самом деле ты спишь и все это тебе снится, в действительности же твое тело устроено иначе? Может быть, например, оно похоже на осьминога и ты живешь на другой планете? (Для младших дошкольников: «Может быть, ты рыба и плаваешь в океане?»)
6. Этот стол существует? Он твердый или мягкий?
7. А может быть, тебе только снится, что предметы такие, какими ты их видишь, а когда ты проснешься, в том, настоящем мире, они окажутся совсем другими: столы будут мягкие, как пух, солнце — квадратное, а комнаты — как стеклянные шары?
8. А бывает так, что ты во сне видишь предмет, а на самом деле его нет? Например, тебе приснился дракон или чудище, а его ведь на самом деле не существует.
9. А может быть, и все предметы — и этот стол, и солнце, и весь мир — тебе только снятся, как тот дракон, а на самом деле их нет?
10. Знаешь, я придумал одну интересную игру. Называется «Необычный сон». Договоримся, что мы якобы спим и все это — солнце, стол и весь мир видим во сне, а на самом деле ничего этого нет, не существует. Можно сыграть в такую игру?
Цель этих вопросов очевидна — попытаться поколебать уверенность ребенка в ряде незыблемых и очевидных фактов. Точнее, в том, что предметы (в том числе его тело) именно таковы, какими он их видит; в том, что мир существует. Для этого мы использовали прием «сдвига» сфер психической реальности: раз в сновидении все может быть иным, значит, возможен и другой мир и даже отсутствие мира. Ведь возможно то, что мы видим ц делаем сейчас, нам просто снится.
Теперь — о результатах. Все дети — от 4 до 13 лет — признали, что они видят сны. Видят во сне себя, а также существа, которых в реальной жизни нет. В момент опроса все признали себя бодрствующими.
Услышав вопрос 5 (о том, что их тело, возможно, имеет другую форму), дети были озадачены. Подумав, большинство дошкольников и первоклассников отвергли эту возможность. Одни дети этим и ограничились («Такого не может быть, потому что я сейчас не сплю»). Другие утверждали, что иному существу (рыбе, инопланетянину) не может присниться человек, поскольку оно ничего о нем знать не может («Рыбе только рыба может присниться»; «Инопланетяне на нашей Земле не могут жить, откуда бы они знали, что здесь такие же другие существа?»). Третьи обосновывали свое отрицание тем, что таких необычных и длинных снов не бывает («Такого не может быть, я бы давно уже проснулся»; «Нельзя же, чтобы вся моя жизнь во сне проходила»). Наконец, четвертые апеллировали к ясности и очевидности своих восприятий («Во сне я бы так четко ничего не видела»; «Во сне боль не чувствуется»).
Но вот что удивительно: треть испытуемых возраста 6—7 лет, а также большинство школьников 9—14 лет признали, что на самом деле форма их тела может быть иной. Конечно, признали не сразу. Сначала и они отвечали «нет». Но стоило взрослому опровергнуть аргументы ребенка, и тот соглашался. Послушаем, как это было:
Никита (9 лет)
«Нет, я не инопланетянин, потому что так долго — 9 лет — они не могут спать».— «А может быть, они по 100 000 лет живут, а сны у них — по 60 лет?» — «Ну… не знаю, вообще-то может, но я с этим немножко не согласен. Потому что если бы я был инопланетянин, тогда почему бы мне снилась эта планета, а не другая?» — «Ну, мало ли почему человеку снится то, а не другое. Так может такое быть или нет?» — «Может, конечно».
Андрей (11 лет)
«Нет, не может такого быть, инопланетяне еще пока ученым нашей планеты неизвестны, что они есть, так что я инопланетянином быть не могу».— «Но есть же вероятность, что они существуют?» — «Есть».— «Значит, может быть такое, что какой-то инопланетянин уснул и ему снится, что он — это ты?» — «Такое может быть. Только я не инопланетянин». — «Значит, никакой вероятности того, что у тебя на самом деле другая форма тела, нет?» — «Есть вероятность».
Очень похожи ответы детей на вопросы 6, 7. Большинство дошкольников и школьников 7—9 лет решительно отрицали, что предметы могут иметь другую форму («Стол не может быть мягким, потому что он твердый»; «Из пушинок стол не бывает»). Почему? Ну, во-первых, потому, что сейчас не сон («Я не могу чувствовать и все слышать во сне именно так сильно, все это настоящее»). Во-вторых, потому, что предметы имеют свое назначение и это определяет их форму («Такого не может быть, мы бы тогда не могли есть на столе, если бы он был из пуха сделан»). Наконец, выдвигалось и традиционное обоснование — так долго спать невозможно («Не может такого быть, потому что это так долго, так долго, что это проходят года, сон не бывает таким долгим»). И все же часть детей 9 лет и большинство 10—13-летних после небольшой дискуссии согласились, что предметы могут иметь и другую форму. Послушаем некоторых из них:
Саша (9 лет)
«Я думаю, что не может быть такого. Что это за столы из пуха? Они мягкие,
па них невозможно писать, вот магнитофон не может стоять на пуху».— «А может быть, в том, настоящем, мире и писать не надо, и магнитофонов там нет?» — «А зачем же тогда там столы?» — «Не знаю. Так может такое быть или нет такой вероятности?» — «Есть, но очень маленькая».— «Но все же может такое быть или нет?» — «Да, может».
Дима (11 лет)
«Не может такого быть, потому что если бы столы были из пуха, на них нельзя было бы ничего положить, они бы развалились, разлетелись».— «Но ведь в том, настоящем мире там, может быть, и тяжести нет, и ничего не разлетится?» — «Ну, капельку может… немного может такое быть».
Да, наш прием удался. Подумать только! Дети начинают сомневаться в таких вещах, в которых, казалось бы, усомниться невозможно, допускать возможность почти невероятного (и форма тела может быть иной, и форма окружающих предметов). Так, может быть, они усомнятся и в существовании мира?
Но нет. Тут мы словно натолкнулись на невидимую стену. Почти все дети решительно отказывались допустить такую возможность. Мир есть, потому что он ясно воспринимаем («Мир есть, потому что я чувствую по-настоящему это»; «Тут же и машины ездят, и птицы летают, все же не может сниться так именно»). Мир есть, потому что не может быть такого длинного сна. Мир есть, потому что должны же мы где-то находиться («Если бы не было никаких галактик, не было бы никакой планеты и я бы не существовал сам»; «Такого не может быть, а где же я тогда буду?»). Никакие дискуссии, никакие «опровержения» взрослого не смогли поколебать уверенность наших собеседников. По мнению многих детей, даже в воображении, даже в игре невозможно сомневаться в том, что мир есть.
Итак, кое-чего мы добились. Выяснилось, что большинство дошкольников и первоклассников невосприимчивы к нашему приему «сдвига сфер» психической реальности. Не в силах подвергнуть сомнению очевидные в своей реальности факты. Старшие дети более критичны. Не только к взрослым, как мы видели раньше, но и к самим себе. Как ни трудно, от аргументов не уйдешь. Приходится признать, что тело человека и предметы могут выглядеть по-другому, иметь иную форму. Но сомневаться в существовании мира — это уж слишком! Тут мы встречаем барьер, дальше которого сомнение не идет. И все же двинемся дальше. Посмотрим, как обоснуют дети несомненность своего собственного существования. Предложим им ответить на вопросы.
1. Значит, ты существуешь?
2. А может быть, тебе только кажется, что ты существуешь, что ты есть, а на самом деле тебя нет?
3. Но ведь, может быть, сейчас ты спишь и во сне тебе снится, что ты есть, а на самом деле тебя нет?
4. А может тебе во сне присниться, что тебя нет? Почему?
5. А когда ты спишь и не видишь снов, ты существуешь или нет? Почему?
6. Знаешь, я придумал еще одну интересную игру: мы договариваемся, что будто бы спим и нам кажется, что мы существуем, а на самом деле, если проснуться, нас нет. Можно сыграть в такую игру? Почему?
Первый вопрос — на констатацию очевидного. Второй и третий — на возможность сомнения в нем. Сомнения в собственном существовании «здесь и теперь» — в сфере настоящего, в сфере обыденной реальности. Остальные три вопроса — варианты: можно ли представить, что тебя нет в другой сфере психической реальности — сновидении, игре и даже при отсутствии психических субъективных явлений (сон без сновидений).
На первый вопрос дети единодушно ответили «да». На второй и третий — единодушно «нет» («Не может быть, я существую — и все!»). Главный аргумент — тот же, что у Декарта: невозможно осознавать что-нибудь (видеть сон) — и не существовать. Мыслю (воспринимаю, чувствую, вижу сны) — значит, существую. Подобные обоснования появляются у детей в 5 лет. Правда, они еще примитивны («На свете-то я есть. Когда меня нет, то нет. Когда я был у мамы в животе, мне ничего не снилось»; «Если меня нет, то и сна нет, то и сон не снится, а если я есть, то сон снится»).
Старшие дошкольники и школьники мыслят и выражаются точнее: «Нет, я есть, а как же я тогда себя ощущаю?» («Если бы меня не было, мне бы и казаться тогда не могло»; «Если бы я не существовал, я бы и не думал и не спал тогда»; «Если я не существую, как же мне может присниться, что я существую?»). Подобные доводы привели большинство 6-летних и почти все школьники. Остальные дети доказывали свою точку зрения по-другому: одни ссылались на личный опыт: «Я есть, потому что я тут сижу» («Я вот трогаю себя, знаю, что это я»), другие — на опыт взрослых: «Мама сказала, что если человек есть на свете, то на всю жизнь».
«Может ли тебе присниться, что тебя нет?» — казалось бы, ответ на этот вопрос ясен — присниться может все. Но и тут значительная часть наших собеседников возражают, и притом с той же аргументацией: «Такого не может присниться, потому что если бы меня не было, то мир был бы пустой, людей бы не было» («А что же это за сон? Это значит, нет сна вообще, если меня нет»).
А игра? Тут уже больше половины детей решительно говорят «нет» («Как же мы можем играть в эту игру, если нас нету?»; «Когда люди договариваются — все, тогда эти люди уже есть на свете!»; «Если бы меня не было, я бы не мог вообще ни в какие игры играть»).
Ну, а если ты спишь и не видишь снов, существуешь ты или нет? Непростой вопрос. Аргумент Декарта тут не проходит — ведь никакого «мышления», «сознания» в этот момент у человека нет. И все же большинство детей утверждало: да, существую! Но как это доказать? Тут наши собеседники допустили ошибку — вновь обратились к аргументу Декарта: «Я же сплю — значит, существую» («Если я могу лежать в кровати, значит, я есть»). Но как раз этого-то делать было нельзя, ведь сон без сновидений не есть активное состояние. Он не осознается и доказательством быть не может. Те, кто это понял, попытались «выкрутиться»: «Существую, я же сплю, я же не пропадаю никуда» («Существую, лежу на кровати, не вижу снов, но ведь потом-то я просыпаюсь, что-то вижу, правильно?»). Но ведь и это не спасает. Единственный разумный выход — признать, что «для себя» человек, спящий без сновидений, не существует. Но для этого надо стать на его позицию. Представить себя спящим, и притом — без снов. Большинство наших собеседников оказались на это неспособны.
И все же большинство детей признали, что в состоянии сновидения и игры они могут и «не существовать». Неужели мы близки к цели? Неужели удалось вызвать у ребенка сомнение в факте его собственного существования? Ничуть не бывало! Да, в игре, в сновидении меня может и не быть, рассуждает ребенок, но ведь это понарошку, не по-настоящему («Во сне-то все может быть, как и в игре понарошку»; «Может быть, у меня такое бывало, я смотрю — а оно там без меня все происходит, а меня я не вижу»).
Итак, наши попытки поколебать уверенность ребенка в его собственном бытии потерпели крах. Все логические приемы, все аргументы наталкиваются на невидимый барьер. На незыблемую уверенность ребенка в том, что он есть. Но самое удивительное, что даже 5-летние дети оказались способны к правильному обоснованию: невозможно мыслить (сомневаться, видеть сны) — и не существовать. Мышление, сознание — это уже доказательство бытия. И притом — несомненное. Выражаясь научным языком, мышление и бытие — тождественны. Но ведь закон тождества мышления и бытия изучают в вузах. А тут — 5—6-летние дети!
Значит, малыш знает этот закон. Знает, хотя ребенка никто ему не обучал. Знает, хотя, если бы не наши вопросы, он мог бы прожить всю жизнь, не подозревая о том, что знает. Знает, но в глубине души, в тайниках сознания. Стоило нам направить его мысль — и это тайное знание вышло на поверхность.
Вот мы и обнаружили в сознании ребенка скрытую «шкатулку», в которой в «спрессованном» виде содержится знание о несомненности его собственного бытия. Ребенок не видит эту «шкатулку», пока взрослый не выявит ее своими вопросами. Однако и тут не все дети способны раскрыть «шкатулку». Лишь старшие дошкольники — в большинстве — справляются с задачей.
Знание о несомненности собственного бытия малыш использует везде. И для этого ему совсем не нужно знать закон «тождества бытия и мышления». Я есть, я существую — это незыблемо. Это интуитивно ясно. На этом можно строить другое знание. Например, знание о бытии внешнего мира. Вспомним предшествующий диалог: все дети уверены, что мир существует. Не может не существовать. Но почему? И вот тут открылось самое важное. Потому, что, «если нет мира, мне негде находиться». Потому, что «я должен где-то быть». Это «где-то» и есть окружающий мир. Значит, мир существует. На знании «я есть» построено другое — «мир есть». А ведь в этом диалоге ребенок еще не осознавал того, что знание «я есть» — несомненно. Он просто использовал его. Как использует его — каждый день, каждую минуту сознательной жизни — каждый из нас!
* * *
Мы установили, что уже для 4-летнего ребенка знание «я есть» — несомненная истина. Но понимает ли он, что такое истина, а что — ложь? Может ли использовать знание «я есть» как эталон истины? Умеет ли отличать знание ясное и очевидное, например знание о том, что в данный момент у него есть субъективные ощущения («Я вижу предмет, чувствую голод…») от знания «темного», «неясного», проблематичного? От знания, усвоенного «на веру» и, следовательно, отнюдь не очевидного? И вообще, как дети разных возрастов отличают истину от лжи?
Для начала попробуем выяснить, отличает ли ребенок истинное знание (знание о собственном бытии) от знания «неясного», вероятностного, проблематичного. Зададим ему ряд вопросов.
1. Значит, мы установили, что ты существуешь, что ты есть? Ты в этом совершенно уверен?
2. А почему ты уверен, что ты существуешь?
3. А есть в мире что-нибудь, в чем ты не так уверен или неуверен вообще?
4. Например, ты уверен, что в моем кармане лежит зажигалка? А ты уверен, что там нет зажигалки?
5. Если я скажу, что ты существуешь, это будет правда или нет? А если я скажу, что тебя нет на свете, это будет правда?
6. А если я скажу, что в моем кармане лежит зажигалка, это будет правда или нет?
7. Чем же, по-твоему, отличается правда от неправды? Что такое правда? А что такое неправда? А что такое истина?
8. А как узнать, правду тебе говорят или неправду? Например, если я скажу, что у меня в кармане зажигалка, как узнать, правду я говорю или нет?
Сначала посмотрим, как отвечают дети на два последних, главных, вопроса. Большинство дошкольников не могут сказать, что такое правда, чем она отличается от неправды (лжи). Конечно, все дети по-прежнему уверены, что они существуют. Это для них несомненно, это — истина. Но сформулировать понятие истины они не могут. Зато школьники решают задачу легко. Что такое правда? Разве не ясно? Правда — это то, что есть, что существует. Неправда — то, чего нет («Правда — это если чего-то скажешь и это есть, а если сказал чего-то, а этого нет, то это — неправда»; «Правда — это когда есть на самом деле, все это существует, неправда — это когда этого быть не может. Истина — это то же, что правда»).
А теперь зададим себе вопрос: отличаются ли ответы детей от тех, которые дал Декарт? По существу — нет. Правда — это утверждение о том, что есть на самом деле, существует в сфере обыденной реальности. Утверждение «я есть» — правда, потому что я действительно есть. Утверждение «меня нет»—неправда, поскольку раз я что-то утверждаю, значит я есть. Правда и существование, истина и бытие — одно и то же. На языке науки — это закон «тождества бытия и истины». Закон, который наши собеседники, конечно, «не проходили». Но они знают его!
Итак, еще один закон, еще одно- скрытое знание извлечено из тайной «шкатулки». Но извлечь его оказалось потруднее, чем знание «я мыслю — я есть». Последнее легко осознают уже старшие дошкольники. Знание же «истина — то, что есть на самом деле» способны выразить лишь школьники, да и то не все.
Как отличить истинное знание от ложного? Логика тут проста. Знание «я есть, я существую» — истинно. Но почему? Да потому, что оно ясно и очевидно. Не требует никаких доказательств. Значит, и всякое знание, которое столь же ясно и очевидно моему сознанию, которое устоит против всякой критики и сомнения, истинно. Если же знание неясно, если оно требует проверки, истинным его не назовешь. Оно может оказаться истиной, а может — ложью. Это — проблематичное знание. Взрослый говорит, что у него в кармане зажигалка. Но возможно ее там нет. Понимает ли это ребенок?
Оказалось, что 4—5-летние дети не в состоянии отличить истинное знание от проблематичного. Если взрослый говорит, стало быть, так и есть. Более старшие (6—13 лет) решительно возражают: «Не знаю, надо проверить. Надо лично убедиться — может, есть, а может, и нет. Надо увидеть, потрогать». Для них критерий истины — личный опыт. Ясность и отчетливость личного восприятия. Если предмет перед глазами, в руках, он есть. Это — истина. Такая же ясная, как и истина «я есть». Если же о наличии зажигалки говорят другие — пусть авторитетные — люди, но сам ты ее не видишь, сомневайся! Итак, ясность и отчетливость личного опыта — критерий истины. И вот что удивительно: его используют уже 5-летние дети, а ведь они не смогли сформулировать, что такое истина! Выходит, критерий истины детям известен и даже используется на практике, но, что такое истина, они не знают. Еще один парадокс «тайной шкатулки знаний».
А теперь посмотрим, как дети пользуются этим критерием, всегда ли прибегают к нему. Предложим им сравнить несколько типов знания. Знание первого типа — о наличии собственных ощущений и восприятий — безусловно истинно. Если я вижу солнце или чувствую голод, это несомненно, это ясно и отчетливо и не требует доказательств. Знание второго типа — о названиях предметов— усвоено детьми на веру. Ведь один и тот же предмет можно назвать по-разному: название «кошка» не принадлежит данному животному так же, как ему «принадлежит» шерсть, лапы и хвост. Название условно. Следовательно, знание «это животное — кошка» проблематично, оно может быть изменено (животное можно назвать по-другому). Критерию очевидности, истинности это знание не удовлетворяет. Наконец, знание третьего типа — о том, что предметы таковы, какими мы их видим. Мы видим солнце маленьким, зная, что его объективные размеры иные. Значит, знание, которое нам дают органы чувств, не является несомненным. Оно нуждается в проверке, в опыте. Итак, снова обратимся к детям с вопросами.
1. А есть ли что-нибудь такое, в чем тебя никогда никто не может обмануть?
2. А если бы все сговорились и стали тебя убеждать, что тебя нет, что ты не существуешь, ты бы поверил? Почему?
3. Если, например, ты очень хочешь есть, а все станут тебе говорить, что ты совсем не хочешь есть, ты поверишь им или нет?
4. А если ты видишь солнце, а тебе станут говорить, что сейчас ночь ты ничего не видишь, ты поверишь этому или нет? Почему?
5. Вот ты уже многое знаешь, знаешь, как называются предметы, которые нас окружают. А откуда ты все это узнал? От взрослых?
6. Значит, взрослые, если бы захотели, могли бы тебя во всем обмануть, например по-другому назвать все предметы?
7. Если бы, например, все между собой сговорились и стали бы тебя убеждать, что слон называется котом, ты бы поверил?
8. А как ты думаешь, если ты видишь какой-то предмет, например солнце, он на самом деле такой, каким ты его видишь, или другой?
9. А что такое солнце? Оно большое или маленькое? Его можно закрыть рукой?
10. Но ведь солнце, которое ты видишь, маленькое, его можно закрыть рукой. Почему? Выходит, оно не похоже на настоящее солнце?
11. Значит, глаз не всегда видит предметы правильно, он может ошибаться?
Читатель видит, что мы и тут начинаем беседу с вопросов о собственном бытии ребенка. Это не случайно: надо косвенно, намеком, напомнить ребенку критерий истины, задать «масштаб» для сравнения разных типов знания.
Разумеется, все дети подтвердили несомненность для них знания «я есть». Столь же истинным было для детей знание о наличии собственных ощущений. Почему? Да потому, утверждают дети, что оно ясно и отчетливо. Не нуждается в доказательствах. И кто бы мне ни говорил, что я не хочу есть, чувство голода не исчезнет («Не поверю, что не хочу есть, потому что мне самой хочется кушать»; «Не поверю, что ничего не вижу, потому что раз я это вижу, так это есть!»; «Если солнце светит, как его не видать-то?»; «Не поверю, потому что у меня чувство — есть захотел. Хоть убеждай, хоть не убеждай — все равно хочется есть»).
С этим — ясно. А как быть со знанием о названиях предметов? Вот тут мы натолкнулись на сопротивление. Да еще какое! Самые маленькие (4 г.) уверены: знание о названиях — истинно. Ведь так говорят взрослые, а взрослые не могут обмануть. Дети постарше (5—11 лет) более критичны: конечно, взрослые могли бы и обмануть, но только не в этом. Ведь кот есть кот, слоном его никак не назовешь. А если бы и назвали — обман быстро раскроется. Пойду в зоопарк и увижу. Занятно, не правда ли? Выходит, для большинства детей, даже школьников, название предмета — такое же естественное его свойство, как форма, цвет, как шерсть или хвост («Неправда, если слона все назовут котом, потому что слон котом не бывает»; «Не поверю, потому что у слона хобот, а у кота нету хобота»; «Не поверю, потому что слон с хоботом и у него уши большие»; «Нет, наукой доказано, что слон и кот — совершенно противоположные животные»).
Вот видите — наукой доказано. Конечно, если у кошки оторвать хвост и приделать хобот, слоном она не станет. Но если ее назвать слоном, она не перестанет быть кошкой. Увы! Это понимают лишь самые старшие наши испытуемые (13 лет). Подобно взрослым, дети отвечают, что название условно. К постоянным свойствам животного оно не принадлежит и абсолютной истиной не является.
И последнее — знание об истинности образов предметов. Для малышей (4—5 лет) и это знание несомненно. Наше зрение не может нас обмануть. Предмет таков, каким мы его видим. Конечно, и они признали, что видимые размеры солнца меньше его истинных размеров. Но это ничуть не колеблет их уверенности: солнце «желтое и маленькое». И только в старшем дошкольном возрасте дети начинают понимать, что знание, которое нам дают органы чувств, проблематично — ведь чувства могут нас и обмануть («Предмет может быть другой»; «Если я его (солнце) представляю себе маленьким, то оно по правде большое»; «Когда плохо видно, глаз может ошибаться, а когда хорошо, если не разглядеть, тоже ошибается») .
А теперь подведем итоги. Мы видим: четко сформулировать представление об истине, правде, как о том, что есть, реально существует, могут лишь школьники. Да и то не все: многие первоклассники не справились с этой задачей. Использовать же критерий истины — ясность и отчетливость личного опыта — могут и дошкольники. Уже 6-летние дети применяют этот критерий, отбрасывая как неистинные некоторые виды знания. То, что у меня есть ощущение голода и восприятие солнца,— ясно и отчетливо. Это истина уже для старших дошкольников. А вот то, что у вас в кармане зажигалка, то, что размеры солнца соответствуют видимым, неясно. Это требует проверки. Это неистинное, проблематичное знание.
Итак, не могут формулировать, но могут применять. Явление в психологии не столь уж редкое. Художник, мастер не всегда способен сказать, почему его произведение приобрело именно такие формы. Тайна уникального сочетания красок, звуков, слов, которой на практике он владеет в совершенстве, может быть скрыта от его сознания. И это отнюдь не мешает творчеству. А иногда и способствует. Спортсмен, который попытается сознательно проконтролировать каждое свое движение, не достигнет высоких результатов. Нужно, чтобы «ансамбль» его движений работал подспудно, сам выносил его над планкой, приводил к финишной черте.
Бывает и обратное. Человек в состоянии сформулировать, но не в силах применить. С этим столкнулись и мы. Даже 9—11-летние дети не сумели применить критерий истины к знанию о названиях предметов. Проблематичность, относительность этого знания упорно ускользает от ребенка и доступна лишь самым старшим. Почему? Вероятно, потому, что отличить истинное знание от проблематичного можно лишь на опыте. Лишь сопоставив, сравнив разные наименования в разных языках. А такой возможности у большинства младших школьников еще нет.
* * *
Вот мы и подошли к последнему, но очень важному циклу наших бесед с детьми. Наша программа движется к концу. Дети прошли через «горнило сомнения». Установили ряд незыблемых психологических истин. Сформулировали критерий истины. Научились — пусть не до конца — отличать истинное знание от ложного и проблематичного. Теперь можно приступить к самому сложному.
Мы установили: у человека есть знание о собственном бытии.
Это — истина. У него есть ощущения, чувства, образы. Их существование — тоже истина. Мы смотрим на карандаш и видим, что он красный. Подвигаем руку к огню — чувствуем тепло. Укол иголкой создает ощущение боли. Цвет, тепло, боль — мы их видим, чувствуем. Существование их несомненно. Но ведь это — наши ощущения. Ощущение цвета — результат химических процессов в сетчатке глаза, ощущение тепла и боли — продукт работы особых «тепловых» и «болевых» воспринимающих органов. А сами предметы? Реальные предметы внешнего мира — карандаш, огонь, игла — как они соотносятся с теми субъективными психическими явлениями, которые порождают? Содержат ли они их в себе подобно молекулам, из которых состоят?
Что касается иглы, тут ясно: никакой боли в себе она, разумеется, не содержит. Боль возникает в теле человека и самой игле не принадлежит. А как быть с цветом и теплом? Тут, конечно, то же самое, но это не очевидно. Огонь как физическое тело не содержит в себе тепло — только температуру. Краска не содержит в себе цвет — только химический состав. Тепло и цвет — продукты воздействия этих предметов на наши органы чувств. Но так уж устроена психика — нам кажется, что тепло и цвет находятся в самих предметах. Как бы наклеены на них. Принадлежат им.
Итак, предметы порождают наши ощущения. Наши ощущения отражают физические и химические свойства предметов. Но ощущения и объективные свойства предметов —разное. В себе предметы не содержат ощущений, субъективных явлений. Это — истина. Это ясно и отчетливо. Это не нуждается в доказательствах. Для нас. А для ребенка? В состоянии ли он — и когда — усомниться в истинности столь яркой психологической иллюзии? В том, что ощущения «приклеены» к вещам? Попробуем это выяснить.
1. Если ты видишь красный карандаш, а я тебе скажу, что ты ничего не видишь, ты мне поверишь или нет?
2. Если то же самое скажут все другие: твои друзья, папа, мама, бабушка, поверишь?
3. Если тебе скажут так: «Ладно, карандаш ты видишь, но это только твое воображение, а на самом деле никакого карандаша перед тобой нет»,— ты поверишь? Почему?
4. Если ты обжег руку на огне и тебе очень больно, а тебе скажут, что тебе совсем не больно, ты поверишь или нет?
5. Если тебе скажут так: «Больно-то тебе больно, но тебе только кажется, что ты обжег руку на огне, а на самом деле никакого огня не было, а боль возникла в руке сама по себе»,— ты поверишь?
6. Перед тобой красный карандаш. Ты его видишь. Скажи, вот эта его краснота, где она находится — в карандаше или в тебе, в твоем мозгу?
7. А ты знаешь, есть люди, у которых нарушено зрение и этот красный карандаш им кажется зеленым. Если ты и такой человек вместе будете смотреть на этот карандаш, то одному он будет казаться красным, а другому — зеленым. Какой же он на самом деле?
8. А ведь может случиться так: на Землю из космоса проникнет какое-то излучение, и у всех людей зрение станет немного другим, только у тебя останется прежним. Какой же он на самом деле?
9. Так где же находится цвет — в карандаше или в твоем мозгу?
10. А жар, который идет от огня,— где он, по-твоему, в огне или в тебе?
11. Скажи, если ты уколол палец об иголку и тебе стало больно, где находится боль — в иголке или в тебе?
Вы видите, что первые 5 вопросов — повторения. Но не совсем: ракурс чуть-чуть изменяется от вопроса к вопросу. Почти все наши собеседники по-прежнему уверены: да, вижу, да, чувствую боль. Что бы ни говорил кто-то, это есть. Но только ли это? Не стоит ли за данными ощущениями что-то другое — то, что их вызывает? Например, огонь? А может, это продукты фантазии, вообра>юения? И тут дети почти единодушны — нет. Ощущения существуют не сами по себе. Это не продукты фантазии. Они отражают внешний мир, реальные, не зависящие от нас предметы («Раз я его вижу, он действительно есть»; «Не поверю, потому что я его так ясно вижу… вы даже когда его положили, он так стукнул — как же он может мне представляться?»; «Не поверю, я его могу взять, потрогать, и он не исчезнет у меня в руках»).
Итак, истинны не только ощущения. За ними — внешний мир. За ними — реальность. А теперь — главное: вопросы 6—11. Где находятся цвет, тепло, боль? Сначала — цвет. Все дошкольники и большая часть школьников — кроме самых старших (13 лет) —твердо уверены: цвет — в карандаше (в краске, в грифеле).
Но как же так? Ведь есть люди, которые видят этот же карандаш в другом цвете? Да, есть. Ну и что? У них зрение испорчено. Все видят карандаш красным, только они — зеленым. Хорошо. Ну, а если все станут видеть этот карандаш зеленым, тогда что? А ничего. Все равно он красный. Это у них зрение изменилось, а не у меня.
Да, трудная задача. Все попытки натолкнуть ребенка на мысль о том, что цвет — продукт работы наших органов чувств, разбиваются о невидимую преграду. Но не будем отчаиваться. Попробуем поспорить с нашими собеседниками. Послушаем диалог с детьми:
Миша (11 лет)
«Все равно он красный будет, потому что излучение подействует на людей, врачи могут вылечить».— «Но люди-то не будут знать, что у них зрение изменилось, они подумают, что это у тебя зрение испорчено!» — «Ну… можно просто нарисовать на бумаге, и они поймут, что у них зрение не такое».— «Но ведь если у них зрение изменилось, то и след на бумаге они будут видеть зеленым».— «Я им покажу ихний галстук и спрошу: «Какой повязывали, красный? А сейчас зеленый? Такое может быть? Нет. Ведь зеленых галстуков не бывает! Он все-таки будет красный».— «Но ведь все другие люди на Земле видят его зеленым?»— «Ну, на них подействовало это излучение, а на меня не подействовало».— «Но они-то будут думать, что это ты видишь неправильно?»— «Ну, тогда я ничего говорить не буду, а просто отойду в сторону, чтобы больше об этом разговоров не было».
Ничего не выходит. При повторении прямого вопроса (9) дети вновь упорно отвечают, что цвет в карандаше. И лишь совсем немногие понимают: цвет — продукт органов восприятия, явление субъективное. Он — «в мозгу», «в глазах». В карандаше его нет. Наконец, часть детей (в основном 11—13 лет) избрали компромисс: цвет и в глазах, и в карандаше. Правда, многие пришли к этому не сразу, а после дискуссии со взрослым («Выходит, что он (цвет) находится в глазах… первым делом он вообще-то находится в глазах, потому что его видишь, я его вижу, а потом, когда его уже начинаешь рисовать — тогда в карандаше»; «И здесь, в карандаше, краснота, и в моем мозгу… В моем мозгу красное, потому что карандаш красный»).
Та же картина — с теплом. Тепло — в огне — вот глубокое убеждение абсолютного большинства. В этом общем хоре совсем тонут отдельные голоса тех, кто думает иначе: ощущение тепла — продукт наших органов чувств, оно — и в огне, и в человеке («Жар… если я буду чувствовать его, то он и во мне, и в огне, а если я не буду чувствовать этот жар, то он будет только в огне»).
Совсем по-иному оценивают дети боль. Правда, самые маленькие (4 г.) и ее помещают в иголку. Но уже большинство 5-летних и все более старшие уверены в обратном: боль — порождение наших органов чувств. Это явление субъективное и в иголке его нет. Так. Теперь мы можем попытаться «поймать» собеседников на противоречиях. Попробуем указать на эти противоречия, может быть, удастся изменить мнение детей относительно цвета и тепла. Давайте поспорим с детьми. Послушаем диалог:
«Скажи, а в чем разница между жаром и болью? Раз жар в огне, так и боль в Иголке должна быть?»— «Нет, иголка железная, ничего не чувствует, это Из металла сделано, а вот человеческая кожа и человеческое мясо, человеческая кровь может проколоться, и ему больно, больно!»— «Но ведь жар ты тоже чувствуешь, а говоришь, что он не в тебе, а в огне?»— «Больно мне, потому что иголка не знает, кого она уколола, она… сама по себе острая, а жар, он… в огне».— «А почему жар находится в огне, а боль — в тебе? Какая разница между жаром и болью?»— «Потому что… жар находится в огне, если бы он находился во мне, то меня бы давно уже не было, я бы расплавился, как металл в печи, а боль находится во мне, потому что укололся Иголкой же я!»— «А в чем разница между жаром и болью?»— «Ну, иголка — это не одушевленный предмет».— «А огонь разве одушевленный?»— «Огонь… нет, но он горит, от него идет жар»; «Жар-то в огне, ведь он же горячий, а я ж не горячий, а иголка-то — она же железная, проткнешь палец — мне больно, а иголке нисколько не больно».
Не получается. Противоречие явное, но осознать его ребенок не может. Боль — во мне, тепло — в огне. Это для него непоколебимо. Придется попробовать подойти с другого конца. Послушаем диалог с детьми:
«Скажи, а если на Землю упадет вредное излучение и все живые существа погибнут, а предметы останутся, как ты думаешь, карандаш останется красным или нет?»— «Останется».— «Огонь останется жарким?»— «Останется».— «Иголка останется больной?»— «Да».— «А боль на Земле останется или исчезнет?»— «Боль исчезнет, ведь все люди и звери погибли».— «А цвет и жар?»— «Цвет останется и жар тоже».— «Значит, если на Земле не остается живых существ, боль тоже исчезнет?»— «Исчезнет, потому что у кого же боль, если никого нет?»— «А жар тоже исчезнет?»— «Жар?., в человеке да… нет, на Земле-то жар останется, вон на Венере никого нет, а там плюс 800 градусов температура».— «И цвет останется?»— «Ну, если будет такая температура, то Земля будет от огня вся красная, раскаленная».
Итак, наш эксперимент показал: убедить детей в том, что цвет и тепло — качества субъективные, почти невозможно. Лишь один из более чем 30 детей пришел к правильному выводу, но этот случай уникальный.
И все же мы должны сделать вывод: сложное отношение между ощущением и вызывающим его предметом постепенно осознается ребенком. Психологическая иллюзия «приклеенности» субъективных качеств к предметам не абсолютна. Раньше и быстрее всего она развеивается по отношению к боли: уже 5-летние малыши помещают боль в тело, а не в предмет. Что же касается цвета и тепла, иллюзия очень устойчива. Однако и тут встречаются отдельные проблески понимания. Правда, всего лишь проблески, отдельные случаи. Но и это — симптом. Начало процесса понимания. Процесса, уходящего в будущее.
* * *
Вот и подходят к концу наши беседы. Пройдя через сомнение, мы вышли из него невредимыми. Все встало на свои места. Есть мы, есть мир. Есть предметы, есть наши ощущения, которые их отражают. И отражают, в целом, правильно. Адекватно. Это и дает нам возможность жить в этом мире, работать в нем. И все-таки кое о чем мы не договорили. Как же быть с главным «аргументом сомнения», которым мы воспользовались в беседах с детьми? С приемом «смещения сфер психической реальности?» Ведь если все, что мы видим, чувствуем, осязаем, сон, то предметы действительно могут быть совсем иными. Может быть, «проснувшись», мы на самом деле увидим квадратное солнце или, подобно героям романа Кристофера Приста, окажемся в «опрокинутом мире»?
«Но мы же действительно не спим,— скажете вы.— Наши чувства, наш разум протестуют! Ведь сновидение — цепь причудливых образов, почти не связанных между собой. Цепь событий, нарушающих законы реальности. То же, что мы видим и делаем сейчас,— непрерывный, связный поток. В этом есть логика, есть цепь звеньев прошлого, настоящего и будущего. В этом мире господствует причинность, в этом мире нет места магии и волшебству!»
Да, все это так. Причинность, связь прошлого и будущего — это и есть критерии, отделяющие реальность от сновидения. Критерии, которые позволяют нам окончательно отбросить сомнение в адекватности, истинности восприятия мира. Но эти критерии нужно знать! Знает ли их ребенок? Когда он постигает их? Итак, зададим наши последние вопросы.
1. Значит, ты считаешь, что сейчас ты не спишь и все, что ты видишь и слышишь, есть на самом деле?
2. Почему ты думаешь, что сейчас не сон и ты не проснешься?
3. Может быть, тебе сейчас только кажется, что ты проснулся, а на самом деле ты еще спишь?
4. Чем отличаются люди, которых ты видишь во сне, от настоящих?
5. А чем отличаются предметы, которые ты видишь во сне, от настоящих?
6. Как ты узнаешь утром, что проснулся и уже не спишь?
На первый вопрос ответить нетрудно. Все знают, что в данный момент они не спят. На второй — труднее. Да, ты не спишь, но почему ты считаешь, что сейчас не сон? Большинство дошкольников не смогли ответить. Уверен? Да. Почему? Не знаю. Старшие были изобретательнее: «Я не сплю, потому что вижу и слышу все ясно и отчетливо» («Потому что я сижу и вижу… не только мне кажется, что я говорю, а я вижу свое тело, свою форму и окружающие предметы, книги, игрушки, цветок, батарею… Во сне мне кажется, например, я хочу тронуть платье, а этого платья нету»; «Потому что… года проходили, я был маленький, теперь подрос, еще впереди года… сон таким долгим не бывает»).
Что же отличает людей, которых мы видим во сне, от подлинных, реальных? По мнению детей, во-первых, они воспринимаются неясно и неотчетливо. Это скорее тени, чем люди («Ну, во сне они ж просто так, в голове, а эти ходят… до тех нельзя дотронуться, до людей, а до этих можно»). Во-вторых, у людей из сновидений необычный характер, поведение («Иногда приснится человек, а характер у него совсем от другого»; «Настоящего человека спросить просто о чем-нибудь можно, а во сне там спросишь — он вряд ли ответит или ответит что-нибудь вообще невероятное»). В-третьих, у них особенный внешний вид («Те, которые люди снятся, они совершенно другие какие-нибудь… у них может быть пасть, как у крокодила, снился мне такой сон… у них хвосты и шея, как у жирафа»; «Они разноцветнее одеты… бывает, что у них зеленые руки, зеленое лицо…»; «Они не такие взрачные, не светлые… Такого темно-серого цвета, а по-настоящему они такие светлые, розовые. И во сне ведь люди меньше, чем по-настоящему»). Наконец, в-четвертых, во сне люди могут быть волшебниками, т. е. нарушать законы обыденной реальности («Ну, люди могут быть добрыми, красивыми, которых на свете нету, могут быть… бабой-ягой, а ее на свете нету»; «Сон — это как бы сказка, они там все сказочные, совсем другие… в сказке все сказочное, а тут все по-настоящему и обыкновенно»).
То же относится к предметам. Во сне предметы как бы нереальны и очертания их туманны и неотчетливы («Они быстро исчезают, а предметы, которые мы сейчас видим, они не исчезают быстро»; «Те предметы, которые я вижу во сне, не сделаны… вот, например, стенку я вижу во сне — она же не сделана из бетона, она ни из чего не сделана, а стенка, которую я сейчас вижу,— она сделана из бетона»; «Настоящие… их можно трогать так, смотреть, а во сне никак не дотронешься»; «Они отличаются… вот у стола, например, эта ножка — она полностью сделана, а там только силуэты этого дерева»).
На последний вопрос «Как ты узнаешь, что ты уже не спишь?» большинство детей (в основном школьники) дали сходные ответы: узнаю, потому что возвращаюсь в обычную обстановку, к привычным предметам. Узнаю, потому что восстанавливается цепь событий, идущая из прошлого в будущее («Ну, я вижу все эти предметы, уже привыкла к своей спальне, а она мне никогда не снилась»; «Просыпаюсь я там же, где и заснула, в той же комнате»; «Я вижу вокруг себя то же самое, которое на самом деле. Все предметы обычные, как всегда, люди тоже такие-же»).
Итак, мы убедились, что все дети осознают разницу между сновидением и реальностью. Но выразить ее, указать критерии могут в основном только старшие дошкольники и школьники. И делают это поразительно точно. Обыденная реальность отличается от сновидения связью вещей и событий во времени. Ясностью и отчетливостью образов. Подчиненностью законам логики и физической причинности. Отклонение от этих критериев означает, что мы в иной сфере психической жизни — в сновидении, фантазии, сказке.
* * *
Наше путешествие в глубь сомнения подошло к концу. Мы начали его с истин известных и общепринятых. Таких множество. Это знания, полученные детьми от взрослых. Знания, приобретенные на собственном опыте. Постепенно, шаг за шагом, мы пытались «освободить» сознание ребенка от истин, казалось бы, очевидных, но все же доступных сомнению. И вот под «ветром сомнения» из хаоса причудливо перемешанных знаний, как из кучи песка, проступили четкие контуры. Обрисовались знания, стойко противостоящие любому сомнению, неподвластные самой утонченной критической мысли. Знания о собственном бытии. О бытии внешнего мира. О тождестве бытия и мышления. О тождестве бытия и истины. О критерии истины. О наличии ощущений и восприятий. О том, что за ощущениями и восприятиями стоят породившие их предметы. О кардинальном отличии обыденной реальности от других сфер психической жизни. Все эти знания тесно связаны между собой. Все они — неразрывная цепь.
Упакованные в «шкатулку знаний», давно лежат они в сознании ребенка. Тайно и тихо совершают свой грандиозный труд. Ребенок не знает о них. Не ведает о сокровищах, которыми обладает. Но они есть. Подобно Атланту, поддерживают они «небесный свод» детского сознания. Одно за другим выступают они на поверхность под «световым лучом» диалогов. Выступают не сразу. И не у всех. Но вот окончен диалог. Выключен магнитофон, вынута кассета… А тайное знание возвращается на свое место. Вновь погружается в «шкатулку знаний». Ребенок «забывает» о нем.
Не все из этих истин могут быть «освещены». Какие-то звенья остаются в «шкатулке». Ребенок — даже с нашей помощью — не в состоянии их извлечь. Это знание об условности наименования предметов. Знание о различии между некоторыми ощущениями и вызвавшими их предметами. Ребенок использует их, но… не в силах облечь в слова. Осознать. Иллюзия «приклеенности» имен и субъективных качеств к предметам пока еще довлеет над ним. Пусть же до времени они остаются в «шкатулке знаний».
Откуда же берется эта таинственная шкатулка? Ведь она не рождается вместе с ребенком. Не включена в структуру его мозга. Она появляется в первые годы жизни малыша. Она возникает! Но как? Мы знаем, что взрослые этих истин малышу не преподают. Но если они не «от генов», не от взрослых и не «от бога», то откуда?
Остается одно. Они — продукт активной работы сознания самого ребенка. Работы не специальной и неосознанной. Но большой и упорной. Малыш, конечно, не изобретает эти истины. Он усваивает их. Ведь они — явно или неявно — растворены в окружающей ребенка культурной среде. В понятиях языка. В логике мышления. В нормах общения. В способах освоения предметного мира. В том общем мироощущении современного человека, которое, безусловно, передается ребенку в процессе взаимодействия с людьми.
Они — эти фундаментальные истины — не выделены специально. Не входят в «канал обучения». Подобны нитям, вплетены они в ткань культуры. И вот — стихийно, безотчетно сознание ребенка втягивает их в себя. Подобно губке, впитывает их, извлекая из почвы. И опускает в свою тайную «шкатулку».
* * *
Мы совершили еще одно путешествие в мир детского сознания. Мир — то удивительный, то странный, то милый и трогательный. Мир — так непохожий на наш. Мир — окруженный вниманием и заботой взрослых.
И все же этот мир — не «башня из слоновой кости», в которой ребенок мог бы избавить себя от «вечных» вопросов. Вопросы эти властно вторгаются в детское сознание. Входят в него задолго до того, как взрослый дает малышу готовые ответы.
«Почему текут реки? Почему звезды не падают на землю? Почему дует ветер?»— вот вопросы из классического набора. Вопросы, которые малыш ставит сознательно и пытается решить. Найдет ли ребенок ответ на эти вопросы, зависит от того, как он решит другие, более глубокие проблемы. Проблемы соотношения естественного и сверхъестественного, психического и физического. Проблемы истины, бытия и мышления.
Проблемы эти невидимы простому глазу. Скрыты они и от мысленного взора ребенка. «Почему в природе не бывает волшебства? Почему мысль нельзя взвесить на весах? Почему я уверен в том, что я существую?»— напрасно мы будем ждать от малыша таких вопросов. Он может задать их себе лишь с помощью взрослого. Задать — и с удивлением обнаружить, что ответы на многие вопросы у него уже есть.
Не все ответы совпадают с ответами взрослых. Некоторые совсем не похожи и даже противоположны. Со временем их содержание меняется. Все ближе подходят они к логике взрослой мысли. Наконец — рано или поздно — совпадают с ней. Сознание ребенка становится сознанием взрослого. «Волшебство» исчезает из мира обыденной реальности. Предметы обретают строгие контуры. «Психическое» отделяется от «телесного». Сновидения—от реальности. Названия и ощущения — от предметов. Безоговорочная вера в то, что исходит от взрослого, заменяется опорой на собственный опыт. Опыт строится на фундаменте истинного и твердого знания. Истинное знание отделяется от проблематичного. Детские «заблуждения» рассеиваются, как дым…
Но нет. Своеобразие восприятия мира, свойственное нам в детстве, не исчезает бесследно. Где-то там, в укромных уголках «взрослого сознания», оно продолжает жить. Время от времени заявляет о себе. В сновидении, фантазии, игре, искусстве мы на время возвращаемся к картине своего детского мира. Зачем? Может быть, затем, чтобы отдохнуть от однообразия обыденности. А возможно, чтобы в иной сфере психической жизни продолжить свою работу. Не так уж редко новые творческие идеи посещают человека именно тогда, когда его сознание на время «освобождается» от ограничений реальности. Эту роль «погружения в фантазию» признавали многие: и великий Эйнштейн, и знаменитый химик Кекуле, и математик Пуанкаре. А искусство? Полотна Мане, Пикассо, Модильяни — разве в них не присутствует что-то от детского восприятия мира?
Итак, детство не проходит. Оно живет в нас и с нами как подлинный и верный друг. Приходит к нам на помощь в минуты усталости и разочарования. В минуты, когда творческая мысль бьется над неразрешимой проблемой. Возвращается к нам, когда мы, оставив реальность, погружаемся в мир искусства или в мир сновидений. Детство необходимо нам. Это не только воспоминание. Это часть нашей взрослой, сегодняшней жизни. Велика трагедия взрослого, навеки «потерявшего» свое детство. Навсегда утратившего способность в какой-то миг — вдруг — увидеть мир впервые. Увидеть глазами ребенка.
ЗОЛОТОЙ ВЕК ДЕТСТВА

Нелегко увидеть подлинную ценность того, что дается готовым или стоит малых трудов. Лишь теряя, мы способны оценить дар, который привыкли считать своим неотъемлемым достоянием и поэтому не замечать.
Одним из таких удивительных подарков культуры и является детство. Точнее, детство современного ребенка, живущего в цивилизованной, промышленно развитой стране. Конечно, мы любим наших детей, постоянно улучшаем их жизнь, боремся за их счастливое детство. Но всегда ли мы сознаем уникальность уже достигнутого? Всегда ли понимаем, что наши дети пользуются одним из самых замечательных плодов цивилизации, к которому история вела людей далеким и трудным путем?
Что же такое детство и от чего зависит, каким оно было, есть и будет?
Наверное, прежде всего, от того, как относятся к ребенку взрослые, как оценивают его и какое место он занимает в их жизни. И от того, как оценивают люди данной эпохи и культуры, данного общественного строя и класса возрастные возможности детей, какие требования предъявляют к ребенку, на какие периоды делят его жизнь. И от того, как кормят, одевают малыша, какие игрушки дают, за что наказывают и за что поощряют. И конечно же от того, как сам ребенок понимает и переживает то, что с ним делают взрослые люди, а также от многого, многого другого…
Иными словами, детство — это сложный организм, в котором каждая клеточка выполняет свою, только ей присущую задачу, вносит собственную лепту. Организм, который возник когда-то и, посте-, пенно усложняясь, достиг состояния, в котором мы его видим сейчас. Организм, имеющий свою историю. Вот об этой-то истории, истории детства, мы и поведем речь.
Познать историю детства — это прежде всего значит сравнить современное европейской детство и детство, принадлежавшее другим историческим эпохам, другим культурам и народам. А такое сравнение необходимо: оно поможет нам лучше понять организм детства, разобраться в его механизмах, а возможно — и научиться регулировать их. Ведь, как и всякий сложный организм, детство не всегда работает хорошо, слаженно. И, как знать, не даст ли нам история детства возможность по-иному взглянуть на такие животрепещущие проблемы современного воспитания, как психологический кризис подростка, отношения родителей и детей, учеников и учителей; взять под контроль некоторые важные клеточки этого организма?
В этой части книги мы коснемся проблем, возникающих на стыке наук: психологии и этнографии, социологии и археологии, антропологии и истории культуры. Проблем, освоение которых еще только начинается. Путь к которым извилист и труден. И опорой на этом пути будет вера в то, что мы сможем чуть-чуть иначе взглянуть на такой знакомый и все же загадочный, вечно меняющийся мир детства.
Дети и взрослые
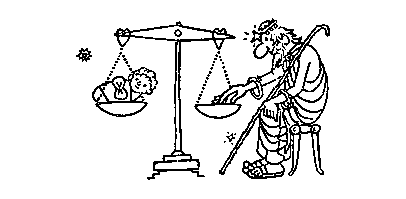
Вы замечали, что у многих персонажей мультфильмов детская физиономия? Даже у животных? Укороченное лицо, выпуклый лоб, круглые глаза, пухлые щеки. Почему так?
Ученые-этнологи считают, что такие черты — стимуляторы родительских чувств. Неважно, кому они принадлежат: ребенку, зайчонку или щенку. Нежность к этому существу появится у нас рефлекторно, независимо от нашего желания. Художники-мультипликаторы используют данную особенность.
Итак, первое отличие — внешность, это на поверхности. А чем еще различаются ребенок и взрослый? Ну, рост, вес, сила, знания, умения… тоже ясно. А еще? Равны ли они перед лицом права, морали, традиции? Мораль и право говорят нам: взрослый уникален, неповторим, его жизнь — высшая ценность. А ребенок? Каков его вес на «весах Фемиды»? Пропорционален физическому? Равен весу взрослого?
Вопрос этот не случаен. Ведь от ответа на него зависит, будут ли мораль и право охранять жизнь и здоровье детей в той же степени, в какой охраняют жизнь и здоровье взрослого. И если мы ответим «да», встанет другой вопрос: а с какого момента? Когда будущий человек приобретает «гражданство»: в утробе матери, в момент рождения или позже?
Давайте разберемся. Во-первых, к кому обращены эти вопросы? К нам с вами? И да, и нет. Скорее, они обращены к тому, что принято называть культурой.
Культура — это все то, что на протяжении тысячелетий создавали люди своим трудом. Не только сады, машины, дома, ракеты, но и наука, искусство, нормы и традиции, принятые народом. Культура — творчество народа, всегда самобытное, оригинальное, свое. Не так-то просто русскому человеку общаться с французом или англичанином, не зная их обычаев и традиций.
И все же если мы сравним культуру стран Европы и культуру народов Африки, Индии, Китая, мы увидим, что во многом нормы и традиции европейских стран совпадают. И совпадение это не случайно. Ведь культура европейских стран исторически вышла из одной и той же «колыбели» — культур Древней Греции и Древнего Рима, а культура народов Африки, Индии, Китая, коренных обитателей Америки и Австралии развивалась другими путями, во многом отличными от путей европейской культуры.
Зачем мы обратились к культуре? А затем, что наши представления о ребенке сформированы нормами и традициями. Тысячью нитей пронизывают эти традиции науку, искусство, литературу. Вам не кажется, например, что в искусстве Италии, тесно связанном с традициями христианской религии, ребенок почти всегда изображался как воплощение чистоты? Как сама совесть смотрит он в глаза «испорченных» взрослых (вспомним бесчисленных мадонн с младенцами — излюбленную тему художников итальянского Возрождения). Не то у американцев с их культом «человека, сделавшего себя». Тут малыш скорее самостоятельный, независимый искатель приключений (Том Сойер, Гекльберри Финн). А в общем, как полагает американский антрополог М. Волфенштайн, для всех европейских культур, несмотря на их различия, ребенок — эталон моральной чистоты. Любовь малыша очищает жизнь взрослого, ведет к духовному возрождению.
Еще пример. Американские психологи проанализировали свою педагогическую литературу прошлого и нынешнего веков. И вот что обнаружили. В XIX в. — веке господства строгой пуританской морали — рекомендации к воспитанию детей были очень суровыми. Надо много и строго наказывать, подавлять капризы. Отвратительно, если ребенок сосет палец или прикасается к гениталиям. Не стоит обращать внимания на крик младенца, если он не вызван голодом или холодом. Совсем иные рекомендации дают американские психологи в XX столетии — веке погони за наслаждениями и распада старой пуританской морали. Ребенку — полная свобода движений. Наказывать — в исключительных случаях. Сосет палец, трогает гениталии? Ничего страшного. Даже полезно в качестве разрядки.
Но вернемся к нашим вопросам. Ответ, разумеется, всем известен: в европейских странах ребенок — полноправное человеческое существо. Его жизнь и здоровье охраняются законом и традицией. И даже если малыш родился больным или умственно отсталым, это не умаляет его ценности перед лицом закона и морали. В этом мудрость и зрелость культуры.
«Но ведь это естественно,— скажете вы.— Разве может быть иначе?»
Давайте посмотрим. Да, права детей, весьма незначительные в начале нашего столетия, резко возросли за счет прогрессивных социально-экономических преобразований. Правда, эти права распространяются лишь на детей, которые уже родились. А как же малыш, который еще не появился на свет? Он — тоже ценность, но другого рода. Ценный материал, из которого еще только в будущем получится человек.
Иными словами, европейские мораль и право проводят четкую возрастную границу, преступив которую, ребенок рождается не только физически, но и как полноправное юридическое лицо. И если мы учтем, что никаких строго научных оснований для проведения этой границы нет, наше гуманное отношение к новорожденным покажется не столь уж и естественным.
Действительно, почему мы не считаем человеком 5-месячный плод, а ребенка, родившегося 7-месячным, принимаем в нашу человеческую семью? Не наводит ли это на мысль, что указанную черту можно провести и в другом месте? Допустим, считать полноправным человеком ребенка, которому от рождения исполнился 1 мес., 1 г., 10 лет? Или считать ребенка человеком лишь после того, как ему дали имя?
И в самом деле, история говорит нам, что далеко не всегда жизнь ребенка охранялась законом, а детоубийство считалось преступлением. Древние жители Карфагена приносили детей в жертву своему божеству Молоху. В раскопках города Гезера найдено целое кладбище новорожденных, умерших насильственной смертью. Библейский Авраам, не задумываясь, готов принести в жертву своего сына. Жители древней Спарты бросали в пропасть детей, родившихся физически слабыми или дефективными. У древних римлян ребенка на пятый день жизни клали у ног отца. Если он отводил глаза, младенца убивали или оставляли в людных местах, где его могли бы подобрать другие. Если же отец поднимал ребенка, он тем самым давал обет воспитывать его. В языческой Исландии многодетные люди часто бросали новорожденных в пустынном месте, а герои исландских саг распоряжались жизнью детей, как своей собственностью.
В чем же причина такой жестокости древних по отношению к детям? Наверное, в каком-то совершенно ином, непонятном для нас отношении к ребенку, ином восприятии мира и человека. Но в чем оно заключалось?
Ответить на этот вопрос помогла эпоха великих географических открытий XVI—XVII вв. Колумб, Магеллан, Лаперуз, Кук открыли для европейцев целые миры. Навсегда ушли в прошлое наивные представления о других народах как о таинственных псоглавцах, безголовых, имеющих глаза и рот на груди, тененогих, прикрывающихся ступнями от солнца, фанезийцах, закутывающихся в свои громадные уши как в одеяла. Перед удивленным взором европейцев предстали многочисленные народы, живущие, по существу, еще в каменном веке и сохранившие в целости верования, обычаи и традиции глубочайшей древности. В их лице история совершила грандиозный и жестокий эксперимент, как бы сохранив для нас самые глубинные и архаичные слои культуры.
Вслед за путешественниками и конкистадорами в далекие экзотические страны Африки, Америки, Океании двинулись торговцы, чиновники, миссионеры. Многие из них десятилетиями жили среди покоренных народов, изучали их язык, описывали нравы и обычаи. Описанное ими было удивительно, непостижимо, почти невероятно. В обычаях архаичных народов обнаружили мышление, внутренний строй которого был в корне отличен от европейского. Французский психолог Леви-Брюль условно назвал такое мышление пралогическим. В чем же его основные особенности?
Сначала давайте пристальнее посмотрим на то, как думаем и рассуждаем мы — люди, воспитанные в традициях европейской культуры. Мы уже знаем: для нас все, что мы видим, чувствуем, переживаем, разделено на два противоположных полюса, на два мира. Один из них — мир объективный, материальный, состоящий из самых разнообразных вещей: от телефона до космической ракеты, от атома до галактики. Несмотря на пестроту и разнообразие, все вещи сходны в одном — они подчинены строгим законам развития природы и общества. Все в этом мире взаимосвязано, каждое следствие имеет свою причину, и мы твердо уверены: даже если сейчас мы не знаем этих причин, когда-нибудь они обязательно будут обнаружены.
Иными словами, в материальном мире нет места никаким волшебным, магическим и тому подобным сверхъестественным силам. Авторучка в моей руке не может превратиться в черного кота, а маска на стене никогда не заговорит.
Другое дело наш внутренний, субъективный мир, мир наших чувств и переживаний. Ведь далеко не всегда можно доискаться до причин появления тех или иных мыслей, образов, желаний, а такие сферы субъективного мира, как сновидения, галлюцинации, фантазия, дают нам примеры самых невероятных и «волшебных» превращений. Главное, что мы четко различаем эти два мира: сон и явь, галлюцинации и реальность, продукты фантазии и явления природы, и почти никогда не путаем их друг с другом.
Совсем не так построено пралогическое мышление. Для представителя архаичных культур вся окружающая его действительность полна таинственных, магических сил. Все предметы и явления мистически связаны друг с другом и с тем человеком, которого они окружают. Сон и явь как бы перемешаны: происшедшее в сновидении человек воспринимает так, как будто бы это случилось на самом деле, а связи реальных явлений часто осознаются им по аналогии с тем, что он видел во сне. Предмет может быть самим собой и одновременно чем-то иным; находиться в одном месте и в то же время в другом. Невероятно? Но раскроем «Первобытное мышление» Леви-Брюля и обратимся к примерам.
Бразильские индейцы племени бороро верили, что их далекими предками являются красные попугаи арара. И не только предками, но и соплеменниками. Для нас это непонятно, для бороро — просто. Ведь речь идет не о телесном, а о магическом, духовном родстве, которое и считается главным. Отсюда и примета: убить попугая — значит навлечь беду на все племя. Индейцы другого племени — гуичолы — были убеждены, что хищные птицы (орел или сокол) видят и слышат все. В перьях их крыльев и хвоста скрыта магическая сила; если перья наденет шаман, он будет знать все, что происходит на земле и под землей, сможет лечить больных, низводить солнце с небес. Индейцы племени чироки думали, будто рыбы живут такими же обществами, как и люди, имеют свои селения и дороги под водой и ведут себя как разумные существа.
Даже предметы, изготовленные человеком и служащие ему для употребления, имеют свои магические свойства и могут быть доброжелательными к человеку или опасными. Индейцы племени зунья «…представляют себе изготовленные человеком предметы живыми, на манер растений, животных, погруженных в зимнюю спячку, заснувших людей. Это своего рода приглушенная жизнь, тем не менее весьма могучая, способная проявляться пассивно своим сопротивлением и даже активно действовать тайными путями… производить добро и зло»,— писал Леви-Брюль. Мельчайшая деталь лука, дубины и т. п. обладает своей магической способностью; вот почему зунья, боясь рассердить духов, воспроизводят все детали с величайшей точностью. Если предметы сделаны по старому образцу, ими можно пользоваться спокойно. Если же что-то изменено, хорошего не жди. Духи разгневаются, и тетива лука порвется, копье не попадет в цель.
Для пралогического мышления нет ничего случайного, все имеет свою мистическую причину. Человек заболел или умер — значит, кто-то околдовал его. Он растерзан зверем, раздавлен деревом — и это не случайно: значит, кто-то злыми чарами наслал зверя, свалил дерево.
Вот и еще одна, уже знакомая читателю, характерная черта пралогического мышления — своеобразная непроницаемость для личного опыта, нечувствительность к логическому противоречию. Для нас явления природы — дождь, ветер — не зависят от нашей воли, существуют сами по себе. Не то — для архаичного человека. Он верит, что на явления природы можно влиять, что они — результат особых магических церемоний. И хотя в большинстве случаев такие церемонии ни к чему не приводят, это не смущает носителей пралогического мышления. Если церемония не состоялась, но дождь все же пошел, то это потому, что она все-таки была совершена, но не людьми, а какими-нибудь благожелательными духами. Если же она была совершена, а дождь не пошел — значит, кто-то из членов племени нарушил священный запрет (поел запрещенной пищи и пр.). Он прогневал духов дождя и сделал церемонию недействительной. Как правило, виновник всегда находится, и в итоге неудача, вместо того чтобы ослабить суеверие, еще больше утверждает в нем архаичного человека.
Конечно, вышеописанные свойства пралогического мышления относительны: в ходе экономического и культурного развития мышление представителей архаичных культур постепенно менялось, приближаясь к европейскому «логическому» типу, и сейчас почти везде стало уже историей. Но нас с вами интересует не этот процесс, а самые крайние формы пралогического мышления: ведь мы хотим понять, как относились к ребенку люди далекой древности, мышление которых, несомненно, напоминало пралогическое мышление людей современных архаичных культур.
Нет ничего удивительного в том, что особенности пралогического мышления распространяются и на представления архаичных людей о ребенке. Оказалось, что архаичный человек верит в тесную магическую связь родителей и ребенка. Пусть младенец еще в утробе — все равно все действия матери магически сказываются на его судьбе. Поэтому мать соблюдает строгие табу — воздерживается от некоторых видов пищи и недозволенных, «вредоносных» действий. В африканском племени бакитара беременной женщине запрещалось есть горячее, чтобы не обжечь ребенка. У кафров ей нельзя было есть губу свиньи: люди верили, что иначе у новорожденного будут слишком толстые губы. Африканцы племени ила думали по-иному: губа свиньи безвредна, но если будущая мать съест гуся, ребенок родится с длинной и тонкой шеей. Индейцы племени навахо считали: стоит беременной женщине завязать узел, и ребенок будет задушен пуповиной в утробе матери; если она разобьет кувшин, у ребенка не закроется темя. Один из наблюдателей, живший в Экваториальной Африке, рассказывал, что до тех пор, пока самка гориллы, которую он поймал, была жива, беременные женщины и их мужья не осмеливались приближаться к клетке. Они были убеждены, что если беременная женщина или муж ее только посмотрит на гориллу, то женщина родит не ребенка, а гориллу.
Возможно, эти верования еще могут быть с натяжкой объяснены логически, ведь как-никак пища и поведение будущей матери в самом деле влияют на ребенка. Но как можно разумно объяснить запреты, налагаемые на отца? Бразильские индейцы тенетахара считали, что, если муж беременной женщины убьет черного ягуара, ребенок непременно родится с хвостом и чертами ягуара; если он убьет кота, у ребенка будут слабые руки; а убийство орла приведет к рождению ребенка с горбатым носом. Даже в Китае в прошлом веке было распространено верование, будто муж должен быть очень осторожен во время беременности жены. «Если земля под ним будет трястись, то… будет нарушен также покой и рост плода в утробе женщины… Особенно опасно в это время вколачивать гвоздь в стену; это могло бы также пригвоздить духа земли, который пребывает в стене, и послужить причиной того, что ребенок родится с каким-нибудь парализованным членом или слепым на один глаз… К концу беременности ни один тяжелый предмет не должен быть передвигаем в доме, ибо хорошо известно, что духи земли имеют привычку селиться преимущественно в таких предметах»,— рассказывает в своей книге Леви-Брюль.
Еще ярче вера в таинственную связь отца и ребенка проявляется в странном обычае «кувады». У многих народов в момент начала у женщины родовых схваток отец ребенка ложился в кровать, стонал, корчился и изображал родовые муки. Тем самым он как бы помогал ребенку родиться. У австралийских аборигенов прошлого века в момент начала родов с отца снимали пояс и надевали на мать. Если по истечении некоторого времени не возвещали о рождении ребенка, муж, все еще без пояса и других украшений, медленными шагами 1—2 раза проходил вокруг стоянки женщин, делая это в намерении увлечь за собой ребенка.
В некоторых племенах бразильских индейцев сразу же после рождения ребенка отец вешал свой гамак возле гамака жены и оставался в нем до тех пор, пока у ребенка не отпадет пуповина. В продолжение этого времени родители не работали и почти не выходили из хижины. Питались они исключительно полужидкой кашицей и лепешками из маниока, накрошенными в воду. Всякая другая пища могла бы повредить ребенку; это было бы равносильно тому, как если бы сам ребенок стал есть мясо или рыбу. У индейцев бороро отец не только постился, но и принимал лекарства, если ребенок болел.
Совсем не похоже на наше и представление архаичных народов о причинах рождения ребенка. Для нас с вами зачатие, внутриутробное развитие и рождение — чистая физиология. Не то для архаичного человека. Он полагает, что душа человека в отличие от его телесной оболочки не умирает, а лишь перевоплощается, непрерывно возрождается, переходя от предков к потомкам. Всякое рождение — это перевоплощение уже существующей души. Поэтому неудивительно, что у индейских племен Северо-Западной Америки ребенок родится «…со своим именем, со своими социальными функциями, со своим гербом… Число индивидов, имен, душ и ролей является в клане ограниченным, и жизнь клана — это не что иное, как совокупность возрождений и смертей всегда одних и тех же индивидов» — так описывает Леви-Брюль обычаи индейцев. Подобно тому как смерть человека — лишь перемена обстановки и местопребывания души, так же и рождение для пралогического мышления есть лишь переход души к свету при посредничестве душ предков. «Ребенок,— пишут Спенсер и Гиллен, исследователи жизни австралийских племен,— не есть прямой результат оплодотворения. Он может явиться и без него. Оплодотворение лишь подготавливает, так сказать, мать к зачатию и рождению в мир ребенка-духа, наперед уже образовавшегося, обитающего в одном из местных тотемических центров» (тотем в верованиях архаичных племен — звероподобный предок племени или клана.— Е. С.). При этом ребенок-дух никогда не вселится в женщину, если она не является женой мужчины, принадлежащего к тому же тотему, что и этот ребенок. Находясь в камне, дереве, скале, колодце и любом другом священном культовом предмете, ребенок-дух подстерегает «подходящую» женщину и сознательно, по своей воле входит в нее. Женщина, которая не хочет иметь ребенка, тщательно избегает проходить мимо этих тотемических центров. «Если же ей все же приходится здесь проходить,—, продолжает Спенсер и Гиллен,— то она быстро бежит, умоляя детей-духов не входить в нее».
Итак, ребенок-дух входит в мать и, наконец, появляется на свет в новом обличье. «Но подобно тому,— пишет Леви-Брюль,— как человек, который испустил дух, еще не совсем покойник, ребенок, который только что явился на свет, далеко еще не совсем «рожден». Если говорить нашим языком, то рождение, как и смерть, совершается в несколько приемов. Подобно тому как мертвый становится «совершенным» лишь после заключительной церемонии, заканчивающей похороны, и только в силу этой церемонии, подобно этому и новорожденный становится «совершенным» лишь после заключительных церемоний посвящения».
Значит, по «архаичной логике» новорожденный — далеко еще не человек. Его духовная, магическая связь с общественной группой еще очень слаба. Он скорее кандидат на жизнь в общественной группе, чем полноправный член последней. Здесь нет еще ничего окончательного, решенного. Лишь после особых обрядов, которые как бы сливают душу ребенка с душой племени, он становится полноправным членом сообщества.
Одним из таких обрядов являлся обряд присвоения имени. Теперь вас не удивит, что в архаичных культурах ребенку нельзя было просто дать имя, как это делается у нас. Ведь для них ребенок — это возрожденный предок. Значит, надо сначала узнать имя этого предка, а уж потом дать его младенцу. Способы для узнавания были самые разные. Так, в Новой Зеландии, когда у ребенка отпадала пуповина, его несли к жрецу; тот, приложив к уху ребенка фигурку идола, читал длинный список имен предков. То имя, при произнесении которого младенец чихал, считалось именем бывшего обладателя души ребенка и присваивалось малышу. У индийских хондов рождение ребенка праздновалось на седьмой день жизни. Жрец опускал в сосуд с водой зерна риса, называя при опускании каждого зерна имя какого-нибудь предка. По движениям зерен в воде и по наблюдениям за младенцем жрец определял, какой именно предок возродился в ребенке, и давал ему имя этого предка.
Это первое имя — лишь одно из многих. Будут и другие: при посвящении во взрослые, при вступлении в брак и т. д. И каждое имя все теснее и теснее духовно связывает человека с племенем, прочнее скрепляет таинственные магические узы. Но первое имя — очень важный жизненный этап. Ведь оно означает официальное признание ребенка членом сообщества.
Итак, в архаичных культурах ребенок рождался как юридическое лицо только с получением имени. Но не давало ли это родителям повода для того, чтобы избавиться от неугодных детей? И в самом деле, еще в XIX в. обычай детоубийства был широко распространен в большинстве архаичных культур. Конечно, в первую очередь не везло детям, родившимся с каким-либо физическим недостатком. На Авроровых островах старые женщины решали, жить или не жить новорожденному; если ребенок обладал каким-либо недостатком, от него избавлялись. Индейцы Амазонки испытывали новорожденного на выживаемость: опускали на некоторое время с головой в ручей. Уничтожали также больных младенцев и детей с телесными аномалиями.
Не в лучшем положении были и близнецы. У кафров прошлого века рождение близнецов считалось большим несчастьем; представители этого племени полагали, что близнецы — больше животные, чем люди (по их понятиям, только животные рождают близнецов). Они навлекают на племя несчастья и эпидемии. Для бразильских тенетахара рождение близнецов было следствием близости женщины со злым духом; детей немедленно уничтожали. В ряде культур уничтожали новорожденных какого-то одного пола — мальчиков или девочек, если их воспитание было невыгодно для семьи, а в некоторых племенах Австралии прошлого века матери даже поедали нежеланных для них детей.
В чем же причина этих жестокостей? Не кроется ли она в некоторых особенностях пралогического мышления архаичного человека? Ведь мы знаем: для такого мышления все необычное, новое, неожиданное кажется опасным, полным враждебных и таинственных сил. И если уж малейшие изменения в способах выделки какого-нибудь орудия считались недопустимыми, то каково было носителю пралогического мышления пережить факт рождения аномального ребенка? Даже рождение близнецов — случай не столь уж редкий — воспринимался как из ряда вон выходящее событие, нарушение магического равновесия в природе, грозящее всякими бедами.
Быть может, архаичный человек и стерпел бы эти удары судьбы, если бы смотрел на жизнь новорожденного иными глазами. Но ведь в том-то и дело, что черту, отделяющую человека от «кандидата в люди», он проводит в ином месте. Не в момент рождения, а в момент присвоения имени и даже позже. А это значит, что избавиться от ребенка до наступления этого момента в глазах архаичного человека вовсе не являлось преступлением.
Наконец, в сознании архаичных людей гибель новорожденного совсем не равноценна гибели взрослого. Душа взрослого полностью слита с душой племени, она трудно и мучительно «отрывается». Душа ребенка, напротив, лишь отступает назад, возвращается туда, где она пребывала раньше и где будет готова возродиться опять. Вот почему, вероятно, архаичный человек не испытывал угрызений совести, избавившись от новорожденного. Ведь он полагал, что тем самым лишь отсрочил появление малыша. Возможно, в ближайшем году этот ребенок войдет в утробу той же матери. «Следует помнить,— пишут о верованиях австралийских арунта Спенсер и Гиллен,— что туземцы верят, будто дух ребенка возвращается непосредственно в Алчеринга (страну тотемических предков.— Е. С.)… и он может вновь родиться через весьма короткий срок, вероятно, даже от той же самой женщины».
«Но разве причины жестоких обычаев лишь в сознании архаичных людей? — спросит читатель.— А как же тяжелое экономическое положение, отсутствие медицинской службы и тому подобное?»
Конечно, действуют и эти причины. Ведь носители большинства архаичных культур еще недавно жили почти в каменном веке, занимались примитивным земледелием, скотоводством, многие вели кочевую жизнь. В таких условиях, конечно, трудно выкормить ребенка, тем более — близнецов.
Имелись и социальные причины. Так, во многих племенах (Индия, Африка) семья была заинтересована в сохранение мальчиков, ведь мальчик — продолжатель имени и традиций семьи. После женитьбы он приводит в семью еще одного труженика; девочка же уходит из семьи, и к тому же ей требуется большое приданое. Наоборот, в некоторых племенах Меланезии имя семьи и наследство передавались по женской линии, а когда девушка выходила замуж, за нее брали большой выкуп. Поэтому девочку ценили выше мальчика и никогда не отказывали ей в праве на жизнь.
Да, действуют и эти причины. Более того, именно материальные условия жизни во многом порождают архаическое, как и всякое другое, мышление. Но не будем забывать и о том обратном влиянии, которое сознание людей оказывает на их бытие и общение. Вряд ли экономические причины сами по себе сделали бы возможным варварский обычай, если бы пралогическое мышление услужливо не подсказывало архаичному человеку разные «смягчающие обстоятельства». Кроме того, мы встречаем много примеров, когда экономические причины не вели к детоубийству, так как оно противоречило обычаям и верованиям. У новогвинейских мундугамор детей, рожденных с пуповиной вокруг шеи, не только не убивали, как у некоторых других народов, а наоборот, очень ценили. Они считались прирожденными художниками. У американских индейцев мохейв рождение близнецов, столь огорчительное для представителей других архаичных культур, воспринималось как счастье. Они верили, что близнецы — это добрые духи неба, приносящие удачу родителям и племени. Поэтому с близнецами обращались бережно, давали им лучшую пищу, одевали на манер взрослых и вообще считали их маленькими взрослыми. У эскимосов и гималайских лепча экономические условия были не менее суровы, чем у других архаичных народов, но жизнь детей тщательно охранялась. Гуманизм? Отнюдь нет. Логика тут другая: просто считалось, что умерший ребенок превращается в мстительного злого духа, а это пострашнее, чем все тяготы воспитания малыша.
Но вернемся к тому, с чего мы начали путешествие в мир архаичных культур и пралогического мышления,— к вопросу о необычайной суровости наших далеких предков по отношению к своим детям.
Вся духовная культура, которую нам сохранила история — литература и искусство, сказания и мифы,— свидетельствует, что мышление наших предков мало отличалось от пралогического. Обычаи и верования древних египтян и ассирийцев, греков и римлян близки многим верованиям современных архаичных культур.
Так же как и современные архаичные племена, древние могли верить, что их род или племя происходит от какого-нибудь особого животного — тотема. Недаром в древних Фивах воздавали особые почести ласке, в Фессалии — муравью (фессалийские мирмидоняне считали, что они происходят от муравьев). На острове Самосе почитали овцу, в Дельфах — волка, а на предметах древней, еще догреческой критской культуры часто находят изображения быка. Как в древневосточных культурах (Ассирия, Вавилон, Египет), так и в Древней Греции даже богам часто придавался облик животных.
Не трудно догадаться, что и ребенка древние представляли себе существом, подчиненным магическим силам. Древние греки на пятый день рождения младенца обносили его вокруг очага, вверяя покровительству Гестии — богини семьи и домашнего очага. Во время этого торжества ребенку давали имя. Греки верили, что на третью ночь после рождения ребенка в дом приходят таинственные богини судьбы — Мойры — и определяют всю дальнейшую жизнь малыша. Чтобы умилостивить богинь, люди совершали жертвоприношения: ставили возле новорожденного вино, клали хлеб, печенье и деньги.
Итак, у древних греков мы видим три важных компонента, которые определяют отношение к ребенку в архаичных культурах: веру в магическое, связь ребенка с магическими силами и тот факт, что срок присвоения имени не совпадает со сроком рождения. А нельзя ли предположить, что до определенного времени (допустим, того, как дать младенцу имя) древние не рассматривали ребенка как человека? Не этим ли объясняется, что у них не считалось преступлением убивать и выбрасывать младенцев, неугодных родителям, а в Спарте обычай уничтожения хилых и уродливых детей был даже узаконен и обязателен? Видимо, люди не усматривали большого греха в том, чтобы отсрочить появление ребенка в мир и таким образом «исправить» врожденный дефект.
* * *
Теперь вернемся к началу этой главы. Мы видим, что вопрос о различиях между ребенком и взрослым не столь уж и прост. И то, как отвечаем на него мы — носители европейской культуры XX в.,— очень знаменательно. Ведь прошли тысячелетия экономического и культурного развития, прежде чем народы, вышедшие из колыбели средиземноморской цивилизации, освободились от пралогического мышления и ребенок из существа, являющегося в мир из таинственной Страны духов, превратился в продукт физиологических процессов, продукт деятельности и воспитания. Прежде чем новорожденный из существа, почти не связанного с людьми, превратился в полноправного человека и гражданина. Прежде чем появились и обрели возвышенные формы такие чувства, как материнская любовь, доброта, нежность, сострадание. И мы видим, как на наших глазах эти удивительные превращения продолжают происходить в культурах, которые мы называли архаическими и которые встали на путь интенсивных социально-экономических преобразований.
«И все-таки,— могут спросить меня,— для чего нам смотреть в столь далекое прошлое? Зачем знать историю отношения взрослых к ребенку?» Ответ очень прост: для того чтобы понять, с каким трудом далось людям то, чем мы обладаем. Чтобы ценить, беречь и развивать великое достижение культуры — гуманное отношение к детям.
* * *
Ребенок родился. Он пришел в мир взрослых и занял в нем место, отведенное ему обществом и культурой. А нам пришла пора перейти от истоков детства к первым шагам маленького человека в его великой одиссее психического развития.
Механизмы воспитания
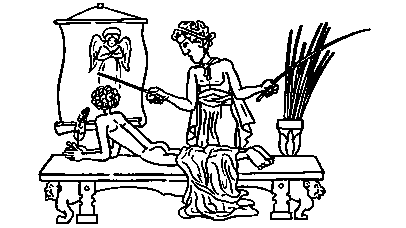
Позади первые радости, связанные с появлением нового члена семьи, и мы приступаем к нелегкому повседневному труду. Кормим, купаем, меняем пеленки, вывозим на прогулку — словом, помогаем малышу преодолеть барьер адаптации и приспособиться к жизни в новой, необычной среде. Но уже теперь мы думаем, мечтаем, о том, каким он станет. Сильным, ловким, смелым, добрым, умным, честным… И мы понимаем, что само собой это не произойдет. Если там, в утробе матери, свою удивительную работу совершала природа, то теперь многое зависит от нас. В том числе и от нашего представления о качествах личности, которыми должен обладать ребенок. Откуда оно берется? Да из книг, кинофильмов, наблюдений над людьми, усвоенных нами моральных норм, из нашего жизненного опыта. Представление это не изобретается каждым человеком в отдельности, а формируется и существует в культуре. И мы пытаемся воздействовать на ребенка, чтобы сделать его таким, каково это представление. Собственно говоря, это и есть воспитание. С чего же оно начинается?
Казалось бы, нет оснований говорить о воспитании новорожденного или 2-месячного младенца. Ведь малыш еще ничего не смыслит: лишь через 7—8 мес. он начнет понимать и произносить первые слова. Так, наверное, и думали родители и ученые до тех пор, пока в первой половине XX в. не было обращено внимание на госпитализм — болезнь, возникающую у ребенка при недостатке общения со взрослыми. Но и тут прошло немало времени, прежде чем осознали, что воспитание надо начинать с первых же дней жизни ребенка. Улыбка, ласковые слова, прикосновение к телу малыша, ношение на руках, кормление грудью — из этого и складывается неуловимая и такая важная форма воспитания, которую мы называем непосредственно-эмоциональным общением.
Конечно, пока еще рано говорить о формировании у ребенка таких качеств, как честность, смелость, доброта и др. Однако то, что создается общением, не менее важно. Это — чувство эмоционального благополучия, теплоты и уюта в новом и незнакомом мире. Чувство, подобное благодатному дождю, орошающему нежные побеги первых знаний и умений ребенка. Исследования показали, что в условиях «засухи» человеческих чувств, при дефиците общения эти побеги развиваются плохо, а иногда и совсем увядают. И не удивительно, что большинство матерей, живущих в промышленно развитых странах, теперь как можно дольше кормят малышей грудью, избегая заменять ее бутылочкой с молоком. А ведь еще совсем недавно кормление из бутылочки по расписанию было очень распространенным. Удивительно другое — осознать важность общения для психического развития ребенка помогли наблюдения за развитием малышей в архаичных культурах.
Уже самые первые наблюдатели обратили внимание на то, что раннее детство в условиях неевропейских архаичных культур существенно отличается от детства ребенка в цивилизованных странах Европы и Америки. Прежде всего бросились в глаза необычайная длительность и интенсивность кормления ребенка грудью, близкий телесный контакт матери и ребенка. Так, у австралийских аборигенов ребенка кормили грудью до 4—5 лет. Мать носила его на бедре или в специальной люльке из древесной коры. Малыш спал с матерью и получал грудь по первому требованию в любое время дня и ночи. У народов Новой Гвинеи ребенка носили за спиной в тонкой сетке, привязав под грудь или на бедро, а то и просто, придерживая рукой, на спине. В Бали ребенок первый год жизни почти все время проводил на руках или бедре матери, пассивно приспосабливаясь к ее движениям; его опыт непосредственно-эмоционального общения с матерью был необычайно богат. На Окинаве мать не снимала малыша со спины даже во время тяжелой работы в поле.
То же самое можно было встретить в совершенно иной культуре — у коренных обитателей Америки. Ацтеки прекращали кормление грудью тогда, когда ребенку исполнялось 3 г.; несмотря на сильное влияние европейской культуры, эта традиция долго сохранялась в большинстве индейских племен Северной и Южной Америки. Большинство наблюдателей отмечало, что ребенка кормят по первому требованию; при этом кормление — не только средство утоления голода и жажды малыша, но и способ его успокоения, повод для игры и общения с ним.
Но ярче всего тесный контакт матери и ребенка выступает в африканских культурах. У народа зунтвази (Юго-Западная Африка) принято привязывать малыша к спине. Вся дневная жизнь младенца проходит на спине или бедре матери; он бодрствует, играет с бусами матери, пассивно участвует в ее общении с другими людьми, спит. Сигналом для кормления является не только крик малыша, но и масса других признаков, которые мать фиксирует в силу близкого телесного контакта с ним: «рисунок» движений ребенка, бульканье в животе, мимика лица, ритм дыхания. Дети зунтвази — «непрерывные сосуны»: они требуют и получают грудь в среднем каждые полчаса.
Но вот наступает драматический для ребенка период — отлучение от груди. Драматический потому, что он означает не только переход к новому типу питания: резко падает интенсивность общения матери и ребенка, увеличивается число применяемых к нему наказаний, появляются новые требования, изменяется вся его жизнь. Лишь в немногих культурах отлучение происходит сравнительно безболезненно и постепенно; у большинства же оно является резким. Причиной обычно выступает новая беременность матери.
Так, на Филиппинах ребенка отлучают от груди в возрасте 2—2,5 лет; при этом мать уходит на несколько дней к родственникам и прекращает общение с ребенком. Если по ее возвращении малыш настаивает на том, чтобы ему дали грудь, мать мажет соски перцем или горьким соком трав. На ночь ребенка всякий раз отправляют к родственникам до тех пор, пока его требования не прекратятся. Точно так же отлучали и в большинстве других архаичных культур: мать обмазывала грудь перцем, никотином из трубки, детским калом и т. п. и на несколько дней прекращала общение с ребенком.
Драматизм этой ситуации для малыша состоит еще и в том, что до отлучения он, как правило, занимает привилегированное положение в семье. С ним много общаются, не наказывают, удовлетворяют его желания, предъявляют минимум требований и т. д. После же отлучения он вдруг оказывается на самом «дне» социальной лестницы, разом лишаясь всех своих привилегий. Его притязания на общение отвергаются, возрастает число требований (соблюдать нормы опрятности, не мешать родителям, выполнять элементарные трудовые задачи), за невыполнение которых наказывают. Центром же внимания в семье становится новый ребенок.
А как обстоит дело у нас, в культурах, которые мы назвали европейскими? Во-первых, внимание, которое оказывает ребенку мать, значительно слабее. И не из-за того, что француженка или англичанка любит своего ребенка меньше, чем африканка. Ведь и африканская мать так много общается с ребенком не по той причине, что ей известна роль эмоционального общения в развитии его психики. Просто таковы обычаи, традиции воспитания. А традициям, как известно, трудно не подчиняться.
Прежде всего, европейская женщина не носит своих детей на спине или на боку. А если бы и носила, то напрасно: одежда (тоже европейская традиция) надежно изолирует ребенка от близкого телесного контакта с матерью. Европейский малыш большую часть времени проводит в кроватке или коляске. Во-вторых, если даже малыша кормят грудью, то значительно реже, чем в большинстве архаичных культур. Считается, что строгое расписание способствует хорошему пищеварению, дисциплинирует ребенка, приучает его к цикличности сна и бодрствования. Так ли это?
Так, но не совсем. Выше мы уже говорили, что кормление — не только переливание молока из груди матери в желудок ребенка; это зрительный, слуховой и телесный контакт, общение. Наконец, длительность кормления грудью по нашим европейским традициям значительно меньше (всего около 1 г.), чем срок кормления в неевропейских культурах.
Все это заставляет нас сделать вывод: средняя «доза общения», которую получает в сутки маленький европеец, значительно меньше той, что достается на долю африканского или балинезийского младенца. Но зато — нет худа без добра — не нужно и отлучать ребенка от груди. Вернее, отлучать нужно, но разве можно сравнить драму избалованного общением малыша-африканца с драмой вышколенного маленького европейца?
А что, если попытаться сравнить ход психического развития европейских и неевропейских детей на первом году жизни? Не окажется ли это развитие более интенсивным у детей из архаичных культур, живущих в условиях «повышенного общения»? Подобное предположение кажется невероятным. В самом деле, разве можно сравнить мир, окружающий европейского ребенка, по разнообразию и обилию вещей с миром детей из архаичных культур? Тут и всякие погремушки, кубики, картины на стенах и электрические лампочки, музыка и еще многое, многое другое. Ничего подобного, конечно, у африканских и австралийских детей нет. И все же такая гипотеза оправдалась.
Читатель уже знаком с исследованиями француженки Жебер по сопоставлению нормы развития движений, социального поведения и речи у европейских и африканских детей. Оказалось, что маленькие африканцы на первом-втором году жизни значительно опережают европейских детей: раньше начинают держать голову, сидеть, ползать, стоять, у них раньше формируются ходьба и речь. Интересно, что такое быстрое развитие наблюдалось преимущественно у детей из сельских семей. А вот в семьях интеллигенции, перенявшей образ жизни и заодно способы воспитания детей у европейцев, развитие детей ничем не отличалось от развития европейского малыша.
Однако к третьему году жизни развитие маленьких африканцев постепенно замедлялось; европейские сверстники догоняли, а затем и перегоняли их. Чем это объяснить?
Все дело в отлучении, полагают авторы исследований. Ведь отлучение от груди — своеобразная психическая травма, замедляющая ход развития африканского ребенка, в то время как его европейские сверстники, которым, по существу, «нечего терять», продолжают равномерно развиваться.
И в самом деле, посмотрим, как описывают драму отлучения от груди американские ученые Альбино и Томпсон, наблюдавшие ее у детей из африканского племени зулусов. В первые дни отлучения малыши проявляют негативизм, агрессивность, склонность к сосанию пальцев. «Нападения» на мать, манипуляции с ее грудью перемежаются с периодами апатии и безразличия ко всему. Чуть позже малыши становятся беспокойными, «липнут» к матери, не отпускают ее ни на шаг. Усиливается негативное поведение. Дети с удовольствием делают то, что запрещено: играют с водой и огнем, разбрасывают мусор, опрокидывают блюда с едой и т. п. Лишь постепенно ребенок возвращается к нормальному поведению. Конечно, все это не способствует психическому развитию.
Оказалось, что нормы и традиции культуры влияют не только на скорость психического развития, но и на его качество. Американские антропологи Мид и Макгрегор засняли на пленку движения балинезийских детей и сравнивали их с движениями американских сверстников. Поразительной оказалась гибкость балинезийских детей (особенно пальцев рук и ног); у американских же детей подобная гибкость наблюдается лишь в первые месяцы жизни, а затем быстро исчезает. Пытаясь объяснить это явление, исследователи обратили внимание на то, что балинезийский ребенок большую часть первого года своей жизни проводит на бедре матери, привязанный куском полотна и лишь слегка придерживаемый рукой взрослого. В такой позиции ребенок ест, спит, общается со взрослыми. Каждую минуту он вынужден приспосабливаться к движениям матери; не потому ли врожденная гибкость, быстро исчезающая у американских детей, сохраняется у балинезийских?
Мид и Макгрегор сопоставили последовательность развития движений у тех и других детей. И вновь маленькое открытие! У американцев (и вообще европейцев) дети сначала учатся ползать на четвереньках, затем встают на ножки и, наконец, идут. Не то у балинезийцев. В балинезийской культуре ползание — традиционный символ нравственного падения (уподобление животным) и не одобряется взрослыми. Зато любимой позой отдыха родителей является сидение на корточках. Поэтому и малыши вначале учатся сидеть на корточках, затем вставать и ходить.
* * *
Итак, мы рассмотрели первые шаги воспитания в европейских и архаичных культурах. И обнаружили любопытный факт: не всегда методы воспитания европейцев идут впереди архаичных. Кое в чем европейским мамам следует поучиться у африканских. Правда, это касается лишь такой формы воспитания, как общение. Формы, которая не требует специальных педагогических знаний, регулируется традицией и, наверное, не очень-то изменилась за последние несколько тысяч лет. Вероятно, кормящая мать и в каменном веке общалась с младенцем примерно так же, как и современная европейская женщина. Возможно даже, общалась больше и лучше. И через десять тысяч лет в какой-нибудь трансгалактической культуре вряд ли малыш, лишенный эмоционального общения со взрослым, вырастет нормальным человеком.
И все же сравнение развития европейских и африканских детей убедительно показало: даже эти «стихийные» формы воспитания со временем изменяются. А что, если наша культура в своем развитии завела нас немного «не туда» и создала традиции, больше оберегающие покой родителей, чем развитие и здоровье детей? Вот тут нам и пригодятся знания о методах воспитания в разных культурах; они помогут нам выбрать оптимальный путь. Недаром опыты психологов и антропологов, показавшие важность эмоционального общения с ребенком, получили такой общественный резонанс и ощутимо повлияли на наши традиционные формы воспитания.
Теперь пойдем чуть дальше. Посмотрим, какие еще формы воспитания младенцев можно обнаружить в сокровищнице культур.
В европейских культурах мы таковых не находим. И в самом деле, что еще, кроме общения, можем мы предложить ребенку? Внушать младенцу общепринятые нормы поведения — «будь честным, правдивым», «не совершай насилия над слабым»? Но чтобы усвоить их, малыш, по крайней мере, должен овладеть речью, а до этого еще далеко.
По-иному обстоит дело в архаичных культурах. Мы знаем, что в глазах архаичного человека ребенок — совсем иное существо, чем в глазах европейца. Для нас «место приложения» воспитательных усилий — тело и психика малыша. Для архаичного же человека гораздо важнее дух, воплощенный в ребенке. Именно он управляет поведением человека и определяет, будет ли тот смелым или трусливым, добрым или злым. Значит, на дух и надо воздействовать. И воздействовать не обычными, а особыми, магическими средствами.
Так, у кафров после рождения сына отец подпаливал на огне перья грифа и давал подышать младенцу. Считалось, что смелость и сила этой птицы сосредоточены в ее перьях и вместе с дымом магически передаются ребенку. Та же процедура проделывалась с перьями павлина. На этот раз целью было избавить малыша от страха перед душами предков; павлин, согласно верованиям, живет в стране, откуда вышли тотемические предки племени. Африканские бушмены запрещали мальчику есть сердце шакала из страха, что трусость шакала войдет в душу ребенка. Индейцы хопи клали новорожденному на руку быстрое насекомое, веря, что это сделает малыша хорошим бегуном. У многих архаичных племен новорожденным в руки вкладывали орудия их будущего труда (копье, нож и т. п.) в надежде, что душа ребенка приобщится к душе орудия, а значит, в будущем малыш быстро и умело овладеет им.
Большое значение в архаичных культурах придавалось обрядам, связанным с плацентой и пуповиной. В нигерийском племени тив пуповину мальчика закапывали под кустом красного перца, а пуповину девочки — под фиговым деревом. Люди верили, что сила перца, передавшись через пуповину, сделает мальчика сильным и крепким, а к девочке перейдут нежность и красота фигового дерева. Индейцы шошон закапывали пуповину под муравейником, стремясь привить ребенку трудолюбие муравьев. Для индейцев чейен, напротив, закопать плаценту или пуповину значило обречь малыша на верную смерть. Поэтому плаценту бережно заворачивали и подвешивали к ветке дерева. Пуповину же высушивали и помещали в маленький кожаный мешочек, который прикрепляли к одежде малыша. Ребенок носил амулет до наступления зрелости. Чейен верили, что амулет убережет ребенка от склонности к воровству и другим аморальным поступкам. Подобные же формы воспитания во множестве встречаются и в других архаичных культурах.
Итак, мы видим: в культурах архаичного типа тесно сосуществуют два различных подхода к воспитанию. Первый — в форме общения — направлен на тело и психику ребенка; тут люди действуют стихийно, по традиции, без всяких теорий (надо же ребенку просто есть и пить). Второй — и главный в глазах архаичного человека — направлен на душу маленького человека. Он целиком и полностью является следствием веры в магические свойства вещей, в то, что эти свойства передаются от вещи к вещи через прикосновение, пространственные и временные связи и т. п.
Очень возможно, что такой двойственный подход к воспитанию был и у наших духовных предков, основателей европейской культуры. Ведь история, мифология, литература древности дают нам массу примеров того, какая большая роль в воспитании отводилась греками и римлянами различным гороскопам, амулетам, гаданию и другим магическим влияниям на ребенка. Лишь постепенно, по мере того как пралогическое мышление уступало место логическому, воспитание освобождалось от магических одеяний и приобретало современные, рациональные (пер. с лат.— от слова «разум») формы.
* * *
Но продолжим наше восхождение по возрастной шкале. Посмотрим, как осуществляется воспитание в тот период, который по нашей, европейской, периодизации лежит между ранним дошкольным и средним школьным возрастом (примерно от 2 до 12 лет). Назовем его периодом «среднего детства».
Как известно, в этот период малыш вступает в «возраст разума» — овладевает речью, основами интеллекта, умением контролировать свое поведение. В чем теперь главная задача воспитания? Она очень «проста»: приспособить ребенка к жизни в обществе. Сформировать у него качества, необходимые для сосуществования с другими людьми. И задача эта, в общем, одинакова для всех культур, на какой бы стадии общественно-экономического развития они ни находились.
Различия начинаются тогда, когда выясняется, что это за качества и каким нормам должен подчиняться ребенок, живущий в той или иной культуре. Иными словами, каковы духовные ценности, которые определяют «этический облик» культуры и задают конечную цель воспитания.
Вряд ли следует подробно говорить, каковы эти ценности в нашей европейской культуре. Конечно, и в европейских культурах, тем более в странах с разным общественно-политическим строем, цели воспитания различны. И все же во всех современных цивилизованных странах имеются такие общие ценности, как запрет на убийство, насилие, воровство, ложь, прелюбодеяние и т. п. И это не удивительно: в противном случае люди разных стран просто не могли бы общаться друг с другом, как не могли общаться с другими народами племена древней Тавриды, по преданию, приносившие всех чужеземцев в жертву богине Артемиде. Эти общие всем европейским культурам ценности существуют давно и, вероятно, не скоро исчезнут; вряд ли и через тысячу лет люди будут одобрять убийство, насилие или обман. Но будущее предвидеть трудно. А вот в прошлое, пожалуй, стоит заглянуть.
Обратимся к греческой мифологии, которая в том виде, в каком мы ее знаем теперь, складывалась преимущественно в XIII—XII вв. до нашей эры. Попробуем оценить поступки известных богов и героев с точки зрения нашей современной морали. Что мы увидим?
Родоначальник всех богов Уран сбрасывает своих детей в бездонные пропасти Тартара. Титан Кронос калечит отца, а затем глотает детей, рожденных ему женой Реей; уцелевший от расправы Зевс сбрасывает Кроноса в Тартар… и т. д. и т. п. В общем, отношения отцов и детей весьма далеки от идеала. Да и в других сферах жизни греческие боги не отличаются высокой нравственностью. А люди?
Знаменитый Геракл в припадке гнева убивает жену и детей. Красавец Тезей бросает на необитаемом острове спасшую его от гибели Ариадну, обрекает на смерть своего сына Ипполита и похищает малолетнюю царевну Елену, поставив под угрозу гибели свой родной город. Жена ахейского царя Агамемнона Клитемнестра, ослепленная любовью к другому, убивает своего мужа…
И все же… Титан Прометей, пожалев беспомощное человечество, выкрал для людей небесный огонь и тем спас их от гибели. Просто так, бескорыстно, за что и был Зевсом прикован к скале, где миллион лет ежедневно орел терзал его печень. Могучий Ахилл, не задумываясь, вступает в битву за погибшего друга Патрокла, хотя и знает, что это навлечет на него гибель. А Гектор? Мужественный Гектор, идущий на верную смерть во имя родного города? Пенелопа двадцать лет хранит супружескую верность своему Одиссею. Разве это не примеры высоких нравственных и моральных ценностей? Да и те герои, кто в ослеплении или по злому умыслу совершил преступление, в конце концов несут суровое наказание. Геракл за убийство детей осужден совершить двенадцать смертельно опасных подвигов, Тезей обречен на изгнание, а Клитемнестра гибнет от руки собственного сына.
Значит, и для людей той далекой эпохи бескорыстие, самопожертвование, верность не были пустым звуком. Возьмем другой источник — Библию (древнейший вариант возник примерно в IX в. до нашей эры). И здесь можно проследить, как постепенно создаются нравственные ценности, созвучные нашим современным представлениям о морали. Ценности эти вплетены в контекст религиозных представлений; тем не менее в них нетрудно увидеть реальные нормы общежития, которым подчиняли свою жизнь и воспитание детей древнесемитские народы. Пожалуй, именно здесь впервые письменно возникают запреты «не убий», «не укради», «не лги», «не лжесвидетельствуй»… А разве современный человек откажется от таких, например, заповедей, как «чти отца своего и мать свою», «люби ближнего своего»?
Много позже, в начале нашей эры, возникает и утверждается другой великий нравственный принцип — принцип альтруизма. Раньше люди не видели для своих отношений другого закона, кроме «зло за зло, око за око, зуб за зуб». Новый принцип гласит: «не отвечай злом на зло». И еще: «если делаешь кому-то добро, старайся, чтобы ни одна душа не узнала об этом, и не жди за это награды».
Конечно, каждому ясно: если человек будет придерживаться только принципа альтруизма, он не выживет в современном мире. Еще менее вероятно, что он выжил бы сто или тысячу лет назад. И все же этот принцип необходим: он живет среди нас как мерило самопожертвования и истинного благородства, как символ высшего нравственного прогресса. Потому что выше ничего не придумаешь. Ведь на зло можно ответить либо злом, либо добром — третьего не дано. Недаром через 17 столетий великий немецкий философ Иммануил Кант, по существу, повторил принцип альтруизма: «Относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы другие относились к тебе».
Ну, а что говорят нам о конечных целях воспитания исследователи современных архаичных культур? Оказывается, и тут мы находим нормы, очень близкие европейским. Такие, как ненависть ко лжи, уважение к старшим, запрет на убийство соплеменника, на прелюбодеяние. И это везде: в Африке, Австралии, Океании… Правда, ни одна из этих норм не универсальна, все они варьируются от культуры к культуре. Например, уважение детей к взрослым и родителям не считалось обязательным у народа манус (Новая Гвинея). Запреты на убийство, ложь, половые извращения, добрачные половые связи и другие отсутствовали в некоторых архаичных культурах. Добрачные половые связи считались нормой в Полинезии и некоторых африканских культурах.
Что же в итоге? Можно сделать два вывода. Во-первых, что существуют некоторые нравственные нормы, возникшие в древности и общие для большинства современных европейских и архаичных культур (запреты на убийство, половые отношения между родственниками и др.), но все же и они — продукт исторический. Во-вторых, что надо отдать справедливость европейским культурам: именно в их лоне был сформулирован и получил развитие великий нравственный принцип — принцип альтруизма. В архаичных культурах мы его не находим. Да это и понятно: ведь только в культурах, освободившихся от пралогического мышления, возможна идея подлинного бескорыстия. Любая вера в духов делает человеческое деяние подконтрольным; человек, творя добро, ждет «благодарности» от этих мистических сил и тем самым уже не бескорыстен.
* * *
Итак, общество предъявляет ребенку те или иные нормы и требования. Дело за «малым»: заставить соблюдать их. А к этому пока есть только два пути: или устроить так, чтобы ребенок сам захотел выполнять ту или иную норму поведения, или принудить его. Первое предпочтительнее, но и труднее. Ведь желание быть добрым, справедливым и т. п. не рождается вместе с ребенком. Это нам, взрослым, наши моральные, правовые, этические нормы кажутся правильными и разумными, а дети так не думают.
Зато все они с удовольствием помогают взрослым в их серьезных делах. Удивительно, но факт: во всех культурах и у всех народов 3—5-летнего малыша хлебом не корми — дай помочь отцу охотиться, рыбачить, печатать на машинке, а матери — толочь зерно, готовить пищу, мыть посуду. И задача взрослых тут не в том, чтобы стимулировать малыша, а скорее в том, чтобы сдерживать его чрезмерную активность. А что если направить эту детскую энергию в нужное нам русло? Заставить работать на моральное воспитание? Но как раз это-то и составляет главную трудность. Проще пойти вторым путем — путем принуждения, поощрений и наказаний. Так думали издревле, так думают многие и сейчас.
«Можно ли наказывать ребенка?» — часто спрашивают меня. А вы найдите семью, в которой бы воспитание обходилось без наказаний в той или иной форме, а ведь они очень разнообразны. Можно сделать ребенку мягкий выговор, можно лишить его (на время) общения, можно оставить без сладкого или поставить в угол. В английских школах, например, до самого последнего времени существовали телесные наказания. И хотя последние в большинстве цивилизованных стран запрещены законом, мягкие формы наказания по-прежнему остаются одним из главных рычагов воспитания. Почему?
Да потому, что это просто и эффективно, по крайней мере, на первый взгляд. Разве мало в жизни случаев, когда какие-то действия ребенка (ложь, грубость, физическая агрессия) требуют от нас немедленной реакции? Когда мы не можем ждать, упрашивать, бесстрастно увещевать? Когда мы должны сказать наше активное, решительное «нет»? Вряд ли тут можно обойтись без наказания. Иное дело — наказать так, чтобы не оттолкнуть малыша, не травмировать его психику.
И все-таки вопрос «Можно ли наказывать?» говорит о многом. Прежде всего о том, что не только ученые, но и большинство родителей в европейских культурах осознают неполноту, недостаточность, бесперспективность такого метода воспитания. Каким бы ни было наказание, оно действует, пока ребенок чувствует на себе строгий глаз воспитателя. Но ведь очевидно: подлинная честность, справедливость, доброта там, где человек добр не по принуждению, а по внутренней потребности. Там, где можно бы и солгать и никто не узнает и не накажет, а человек все-таки не лжет. Короче говоря, там, где есть бескорыстие. Как его воспитать?
Вопрос нелегкий. Сотни лет бьются над ним философы, психологи и педагоги. Пока без особых успехов. Ясно одно: метод кнута и пряника тут не поможет. Ведь желать награды, бояться наказания — корыстные побуждения и из них при всем желании бескорыстия не получишь. Нужны иные методы.
А как в архаичных культурах? Тут проблема решается проще. В самом деле, раз идея бескорыстия отсутствует (а это мы установили), то награды и наказания остаются единственным методом управления поведением ребенка. Вот только как именно наказывать — тут точка зрения носителей пралогического мышления не совсем совпадает с нашей.
С одной стороны, мы встречаем наказания — и весьма суровые — с обычной целью: вызвать боль. В священной книге ацтеков описано, как за нарушение религиозных и этических норм 8-летним детям показывали орудия наказания и угрожали их применением; 10-летним связывали руки и ноги, кололи тело колючками или били палками. Мальчиков постарше держали над дымящимся костром, заставляя вдыхать дым, или привязывали к столбу на площади. Индейцы ряда северных племен не уступали по жестокости ацтекам: за нарушение различных табу ребенка на некоторое время лишали воздуха, укутав его одеялом, или наливали в нос воду. Африканцы племени бадвин заставляли ребенка, укравшего пищу, держать руки в муравьином гнезде; кафры в наказание за ложь насыпали в ладони малышей горячее зерно.
Однако сколь ни суровы такие наказания, в глазах архаичного человека их роль в воспитании ничтожна. И в самом деле, в суровых условиях жизни дети быстро привыкают к лишениям и боли. Да и взрослый носитель пралогического мышления соблюдает моральные и правовые табу вовсе не из боязни физических наказаний. Он боится другого: нарушение табу может разгневать духов; а с ними лучше не связываться, иначе не оберешься бед и для себя, и для племени. К тому же от них не спрячешься, не убежишь; с хищным вниманием следят они за каждым твоим шагом и только и ждут, чтобы к чему-нибудь придраться. Поэтому надо с раннего возраста прививать ребенку страх перед духами.
Американские индейцы хопи и зуни создали целый институт воспитания такого страха. Раз в год один из мужчин, надев маску страшного бога Сойко, с топором, ножом, луком и корзиной (в которую он якобы забирает непослушных детей) проходит по деревне. За ним с не менее устрашающим видом следует группа других богов. Бряцая оружием, они подступают к дому и требуют у родителей выдать ребенка. При этом боги перечисляют «грехи» малыша и грозят убить его. Родители, конечно, знают, что ничего страшного нет, но виду не подают; они откупаются от богов едой и подарками. Цель тут двойная: запугать ребенка, привить ему страх перед местью духов и в то же время привлечь к себе, выступив в роли спасителя. В других индейских племенах детей запугивают русалками, призраками и т. п. Время от времени кто-нибудь из взрослых, обрядившись в соответствующую одежду, также обходит деревню, наводя на детей ужас. Сходные обычаи мы видим на Филиппинах: тут в качестве пугала выступает злой демон Вавак. Два раза в год одна из женщин в маске Вавака обходит деревню, угрожая забрать непослушных детей. Как правило, после такого обхода дисциплина среди малышей заметно улучшается.
Иногда телесные и магические воздействия на ребенка объединяются, как, например, в «ритуале цыпленка» у гватемальских индейцев педранос. Педранос верили, что старший ребенок завидует младшему, на которого обращено основное внимание матери; на языке пралогического мышления это значит, что душа старшего стремится съесть душу младшего и, если не провести особый ритуал, младший ребенок заболеет и умрет. В целях профилактики такого события знахарь брал цыпленка и бил им по спине старшего; затем пострадавший съедал цыпленка под аккомпанемент приказа: «Ты не должен есть своего маленького брата. Твоя еда — этот цыпленок. Его мясо — как мясо твоего маленького брата. Ты должен заботиться о нем и не пугать его». Таким образом, педранос сразу убивают двух зайцев: устрашают ребенка и ублажают его духа.
Вполне возможно, что в обычаях архаичного воспитания, как в зеркале, отражается далекое прошлое европейских культур. Ведь для древнего грека нарушить принятые в обществе нормы значило не только вызвать на себя людской гнев, но и восстановить против себя суровых богинь мести — Эриний. В Ветхом Завете мы находим множество красочных описаний всех болезней и бед, которые обрушиваются на нарушителя заповедей.
А телесные наказания? Мы знаем о них мало, но все же ясно: мягкостью они не отличались. Библия за систематическое непослушание рекомендует даже смертную казнь: побитие камнями. В средние века суровая палочная дисциплина царила в семье, в цехе ремесленников, в школьном классе. Посмотрите на картину известного немецкого художника Амбросиуса Гольбейна, изображающую сценку из школьной жизни: одной рукой учитель показывает ученику, как писать буквы, в другой держит пучок розог. Так учили грамоте в Европе XVI в.
В ходе исторического развития европейский подход к воспитанию сильно изменяется. Во-первых, распадается пралогическое мышление, с ним отмирают и всевозможные ритуалы «магической педагогики». Во-вторых, идет процесс гуманизации; отношение к ребенку становится более мягким. Делается очевидным, что от суровых наказаний, в сущности, больше вреда, чем пользы. «Страх и почтительность должны дать вам первую власть над их душами,— писал о детях выдающийся философ XVII в. Джон Локк,— а любовь и дружба должны закрепить ее: ибо должно прийти время, когда они перерастут розгу… и тогда,— я вас спрошу,— если любовь к вам не сделает их послушными и не внушит им чувства долга, если любовь к добродетели и желание поддержать свою репутацию не будут их удерживать на достойном пути,— какое у вас будет… средство повернуть их на этот путь?»
Наконец, умы воспитателей все больше завоевывает идея воспитания у детей бескорыстных, альтруистических мотивов, такого воспитания, где награды и наказания вообще неприменимы.
* * *
Такова краткая история некоторых методов воспитания ребенка в период его «среднего детства». А как живет сам ребенок на временном отрезке от 2 до 12 лет? По-разному, смотря где. В европейских культурах он овладевает речью, умениями и навыками, играет; воспитывается дома или ходит в детский сад, общается со сверстниками и взрослыми. Затем — школа, учение, и, наконец, мы получаем готовый продукт воспитания.
Много всякого — хорошего и не очень — встречает ребенок на своем пути; в разных странах у каждого детство свое. Но есть и общее — плавность. У европейских детей плавное детство. Выучил в детстве свое имя — и носишь его до конца своих дней; узнал впервые своих родителей — и живешь с ними или возле них. Конечно, с возрастом ребенка его положение в обществе меняется: то, что требуют от 5-летнего, не потребуют от годовалого; жизненные задачи у школьника сложнее, чем у дошкольника. И все же перемены эти совершаются медленно, постепенно. Лишь дважды в жизни ребенка наступает «переворот»: когда он впервые идет в школу и когда покидает ее.
Совсем по-иному складывается жизнь ребенка в архаичных культурах. Как мы знаем, для архаичного человека ребенок — далеко не полноправный член общества. Как настоящий, взрослый человек он еще «не родился»; душа его еще не слита с душой племени. Для укрепления этой духовной связи и существуют особые ритуалы — ритуалы возраста.
Ритуал возраста — это праздник. Горы фруктов, вино, веселье, музыка… Но главное тут — особое магическое действо; оно-то и поднимает маленького человека еще на одну ступеньку по лестнице взрослости. Обычно такой ритуал оставляет след на теле ребенка: выбитый или обточенный зуб, татуировку и пр.; он получает новую одежду и украшения. Как правило, виновник торжества приобретает новое имя и тем самым как бы рождается заново, переходя на иную социальную и духовную ступень.
Самый важный и удивительный из серии этих ритуалов — инициация (посвящение во взрослые). Читатель уже знаком с ним. Обычно мальчик, как и девочка, живет с матерью в той части дома, которая специально отведена для женщин, и почти не соприкасается с жизнью мужчин. Но наступает возраст половой зрелости, и в один прекрасный день все меняется. Мальчика отделяют от женщин и ведут на особую площадку, где и происходит инициация.
Прежде всего посредством специальных магических действий (купание, обтирание маслом и т. п.) юношу «очищают» от тех «следов», которые оставила в его душе жизнь ребенком. Тело юноши декорируют сажей, глиной, пухом птиц, нанося их в форме особого тотемического узора. Затем наступает время самой важной и «священной» операции — обрезания или обрядов, которые его заменяют (разные виды татуировки, нанесение порезов на тело и т. п.).
Не успевают раны юноши затянуться, как его ждут новые суровые испытания: проверка на выдержку, смелость, силу. Так, у племени басума (Новая Гвинея) мужчины, держа палки утыканные кусочками обсидиана, выстраивались в два ряда, создавая коридор; задачей каждого было нанести удар посильнее по спине юноши, пробегавшего между ними. Австралийские арунта разжигали костер и клали на него зеленые ветки; на такой «кровати» обнаженные юноши должны были лежать, пока им не разрешали подняться (испытание огнем). Варианты этого обряда — забрасывание горящими ветками, разведение костра на спине — встречались и у других племен. Существовали и такие испытания, как обливание ледяной водой, удушение дымом, частичное утопление, укусы муравьев, разъедание кожи солью, кормление отбросами, испытание голодом и жаждой, выбивание зубов, обрезание пальцев… Индейцы мандан, например, устраивали такие «соревнования»: через мышцы икр юноше протыкали железные прутья с привязанными к ним гирями, а затем заставляли бежать наперегонки с лучшими бегунами. При этом следили, чтобы юноша выдерживал испытание без всякого признака боли или страдания. Был и еще один вид испытаний — испытание трудом. Вернее, испытание на ловкость и умение ловить рыбу, охотиться, делать вырубку в лесу и т. п.
После испытаний наступает новый этап — изоляция. Юношу уводят далеко от стоянки племени и оставляют в лесу. Недели, месяцы и даже годы проводит он в полном одиночестве, соблюдая обет молчания; изредка ему приносят еду, а в остальное время он должен обеспечивать себя сам. А ведь надо еще соблюдать различные табу: многие виды пищи, которые можно добыть в лесу, считаются запретными. Лишь иногда юношу посещают взрослые члены племени: они вновь подвергают его испытаниям и заодно обучают разным племенным обычаям, обязательным для взрослого мужчины. Считается, что юноша как бы умер. Вернее, умер ребенок. Для того чтобы родился мужчина. В период же изоляции он — никто: не мальчик, не мужчина и даже не член племени.
Отметим: то, как юноше сообщают новые правила его жизни, совсем не похоже на суховатые нравоучения европейских пап и мам. Лишь в моменты сильной боли, тяжелых физических мук юноше говорят то, что отныне должно скрижалью вписаться в его сознание: «Теперь ты мужчина: не играй с детьми, не кради, не лги, не соблазняй чужую жену. Чти родителей, не женись на сестре» и т. п. Можно себе представить, как глубоко внедряется в память юноши эта «учеба», если от боли хочется кричать, а кричать нельзя.
Но и это не все, и даже не главное в обряде инициации. Главное же в том, чтобы передать кандидату в мужчины духовный, магический опыт взрослого человека, члена племени. Передать кроющиеся в нем силы, без которых юноша никогда не будет мужчиной, стань он даже седым стариком.
Делали это по-разному. У одних народов юношу заставляли пить кровь, собранную у стариков или у взрослых мужчин, а затем натирали ею его тело. У других на тело юноши наносили глубокие надрезы кристаллами кварца или ножом, предварительно вводившимся в тело взрослого члена племени. Суть была везде одна: по «закону сопричастия» магическая сила взрослого «перетекала» в тело юноши.
Вот теперь юноша — почти взрослый. Наконец его можно ознакомить с секретами и тайнами племени. Ему показывают святая святых — тотемические места, фигурки идолов, священные обряды и ритуалы, к которым допускаются лишь взрослые мужчины. Это знак особого почтения, признания взрослости и равенства; под страхом смерти должен юноша хранить тайны от непосвященных — женщин, детей и иноплеменников.
Наконец наступает торжественный период: «вновь рожденного» мужчину принимают в социальную группу. Его освобождают от обета молчания, дарят оружие, новые украшения и новую одежду. Дают новое имя. Веселый праздник и священные тотемические церемонии завершают инициацию, подчеркивая значимость момента.
Теперь юноша окончательно становится взрослым, полноценным членом племени. Вся жизнь его изменяется. Он получает новые права: создавать семью, постигать секреты племени, участвовать в тотемических церемониях; новые обязанности: теперь он охотник и воин. Иными словами, он действительно как бы родился заново: и социально, и психологически.
Но это лишь одна сторона медали, важная и единственная для нас, но далеко не самая важная для носителей пралогического мышления. Ведь для них новое рождение — не метафора, а вполне реальное рождение взрослого мужчины, приобщение души юноши к духу племени. Новая, теперь уже полная, сопричастность индивида и рода, сопричастность бесповоротная, окончательная. Это, и только это, дает новопосвященному право на социальные привилегии взрослого, а вовсе не его естественный, «хронологический» возраст. Так, например, фиджийцы не делали никакого различия между непосвященными мужчинами и детьми, называя их одним именем — коирана (дети). У австралийских аборигенов мужчины, не прошедшие инициацию, не считались взрослыми людьми. «На стоянке туземцев,— пишет исследователь жизни австралийцев Гоуитт,— гостили… двое или трое мужчин из племени бидуэлла с женами и детьми, кроме них был еще мужчина из племени крауатун курнает с женой и ребенком. Когда церемонии начались, то ушли все гости, за исключением одного, так как ни бидуэлли, ни крауатун курнаи не имели церемоний посвящения и, следовательно… не «сделались мужчинами». Остался один патриарх из племени бидуэлли, но и его сейчас же прогнали, сконфуженного, к женщинам и детям. Причина здесь совершенно ясна: он никогда не «сделался мужчиной», следовательно, он был только мальчик».
Конечно, в обрядах инициации можно увидеть и рациональное зерно. И даже своеобразную психологическую проницательность: ведь «кодекс» племенных обычаев сообщается не как-нибудь, а в условиях повышенного эмоционального возбуждения, острой психологической восприимчивости. А разве испытания на выносливость, смелость, выдержку не есть своего рода экзамен на жизнь в суровых условиях?
Все так. Но если мы увидим только это, то не поймем самого главного: глубокого магического значения, которое скрыто для архаичного человека в каждом этапе инициации. Значения, которое превращает испытания из цепи бессмысленных жестокостей в серию своеобразных архаических воспитательных воздействий.
И вот что удивительно: еще в конце первой трети XX в. ритуалы эти встречались почти во всех архаичных культурах Африки, Азии, Америки, Австралии… Различны лишь были формы. В чем же причина такой устойчивости, вездесущности инициации? Пытаясь ответить на данный вопрос, английский ученый Хэмбли предположил, что эти обряды возникли в те невообразимо далекие времена, когда люди кроманьонского (биологически современного) типа жили еще в какой-то единой «праколыбели» культуры, до расселения по другим материкам. В самом деле, иначе трудно объяснить, почему, например, обрезание мы встречаем у племен Африки, Америки и Австралии, столь удаленных и изолированных друг от друга.
В современных европейских культурах мы уже не видим ритуалов возраста. Средневековая Европа еще знала их следы: торжественное вручение меча знатному юноше, посвящение в рыцари. В дальнейшем и они исчезли.
Почему? Вероятно, распад пралогического мышления означал конец инициаций. Таинственный духовный «мостик», магическая связь ребенка и общества перестает существовать в сознании людей. А значит, ритуальные воздействия на ребенка теряют свой смысл. Они умирают.
* * *
В этой главе мы сравнивали некоторые методы воспитания детей у европейских и неевропейских народов. И вряд ли ошибемся, если сделаем вывод: воспитание современного европейского ребенка и сложнее, и проще того, которое было в древности и сохранилось в архаичных культурах.
Его сложность — в большей организованности, осознанности. Лаборатории, институты, целые отрасли науки специально занимаются разработкой проблем воспитания. Их цель не столько воспитывать (это задача практической педагогики), сколько понять, как надо это делать.
Архаичный человек не думает специально о воспитании; формирование личности ребенка не выступает перед ним как самостоятельная проблема. Он просто живет, и воспитание для него — часть жизни, так же как труд и отдых. Как и вся жизнь, оно подчинено традициям, является их частью. А традиции не исследуют, не придумывают. Им подчиняются. В этом — простота архаичного воспитания.
Но в этом же его сложность. Для нас объект воспитания — потребности ребенка и мотивы его поведения — то же, что для скульптора камень. Мы уверены: стоит нам узнать, где и сколько надо отсечь, и успех обеспечен. Личность, как и любое явление природы, есть продукт строгих закономерностей, звено в бесконечной цепи причин и следствий. В этой спокойной уверенности — сила и простота европейского воспитания.
Не то для архаичного человека. Тут объект воспитания не личность, а душа. Когда архаичный человек вкладывает в руку новорожденного копье или совершает ритуал обрезания, он тоже «управляет» и «формирует», но по-своему, употребляя средства «магического воздействия». Правда, иногда достигает и того, что мы называем формированием личности. Но это побочный результат, а не цель архаичного воспитания.
Современная педагогика многих стран, в том числе и нашей,— на перепутье. Ее цель — гармоничный, всесторонне развитый человек, творческий, раскованный и свободный. Но что такое свобода и что такое гармония? Свободен ли человек, действия которого ограничены нравственным законом? Известно, что многие из титанов эпохи Возрождения, будучи гармонично развитыми, пребывали вместе с тем не в ладах с моралью и законом. А как оценить то, что происходит сейчас среди неформальных молодежных объединений? Что это — поиск нового идеала или полное отсутствие такового? Провал традиционной педагогики или ее «точка роста»?
Решение данных задач возможно лишь на научной основе. Оно требует глубокой и всесторонней разработки конкретных форм и методов воспитания, объединения усилий таких наук, как психология, педагогика, этика, антропология, и др. Немаловажное место в разработке этих задач принадлежит и истории воспитания; она не только может подсказать ученым правильные пути и предостеречь от ошибок, но и придаст их работе глубокий смысл исторического деяния.
Ребенок и труд
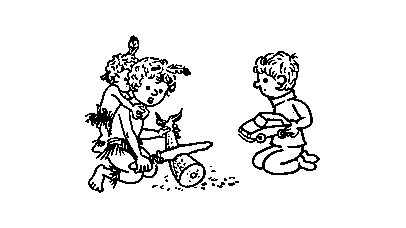
«Мне частенько приходилось видеть комичную сцену,— писал известный русский путешественник Миклухо-Маклай о папуасах Новой Гвинеи,— как маленький мальчуган лет четырех пресерьезно разводил огонь, носил дрова, мыл посуду, помогал отцу чистить плоды, а потом вдруг вскакивал, бежал к матери, сидевшей на корточках за какой-нибудь работой, схватывал ее грудь и, несмотря на сопротивление, принимался сосать».
Раннее вовлечение малышей в трудовую жизнь взрослых — характерная черта архаичных культур. У ацтеков малыш начинал активно помогать старшим с 3—5 лет. У современных мексиканских индейцев 4—5-летняя девочка обязана носить воду, собирать посуду после еды, следить за огнем в очаге. Мальчик того же возраста ухаживает за животными, собирает фураж, работает на поле вместе с отцом. На Аляске 2-летние малыши носят в дом маленькие кувшины с водой, а 3-летний ребенок, если возникает необходимость, работает острым ножом или топором. На Соломоновых островах (Тихий океан) 5-летние девочки трудятся большую часть дня: помогают матери готовить еду, носить воду и дрова, ловить рыбу на рифах, обрабатывать ямс и таро, плести маты из пальмовых листьев. Мальчики собирают плоды хлебного дерева, кокосовые орехи, бананы, плетут сети, рыбачат. У австралийских аборигенов в 4 г. мальчик получает от родителей детское копье, бумеранг, копьеметалку и охотится на мелких зверей и птиц; девочка собирает корнеплоды, убирает хижину, готовит еду. То же мы видим у народов Новой Гвинеи, Африки и Азии.
Но основная, самая главная обязанность детей 3—7 лет в архаичных культурах — уход за малышами. Это и понятно: ведь тут нет ни ясель, ни детских садов, а дети в семье следуют один за другим. Выход один: организовать ясли на дому, а няней и воспитателем поставить старшего ребенка. Так и поступают родители. На островах Самоа (Полинезия) сразу после отлучения ребенка от груди мать передает его на попечение старшего брата или сестры. Теперь за поведение малыша целиком отвечает ребенок-няня. Отвечает в буквальном смысле: ведь если малыш провинится, наказывают не его, а «няню». Даже играя, старшие дети вынуждены таскать на спине своих подопечных. Такая же картина у жителей Филиппин и у других представителей архаичных культур.
Совсем по-иному обстоит дело в современных европейских культурах. Если дети и начинают работать, то значительно позже (в 9— 10-летнем возрасте), да и то это обычно бывает в сельской местности. В городах они фактически исключены из производительной деятельности взрослых. Да что там производство! Разве дадим мы в руки 3-летнему малышу топор, пилу или нож? А ведь потребность, желание помогать нам в работе у наших малышей ничуть не меньше, чем у маленьких австралийцев или экскимосов. Конечно, иногда и мы, уступая настойчивым просьбам ребенка, даем ему повозиться с посудой или пылесосом. Но разве это похоже на большой и серьезный труд, какой с ранних лет ложится на плечи детей в архаичных культурах?
«Но это — частные наблюдения,— скажете вы.— А где доказательства?»
Есть и доказательства. Американский антрополог Уайтинг подсчитал обязанности детей разного возраста в европейских и архаичных культурах. Оказалось, что в последних дети значительно раньше и чаще вовлекаются в труд, чем в первых. Достаточно сказать, что в архаичных культурах 25% всех взаимодействий ребенка с другими людьми приходится на уход за малышами; в европейских же культурах малышам достается лишь 4% внимания старших братьев и сестер. Число обязанностей европейского малыша в 4 раза меньше, да и по качеству они отличаются: если в архаичных культурах дети своим трудом вносят большой вклад в экономику семьи, то труд европейского малыша не имеет серьезного значения в глазах взрослых. Скорее это приучение к порядку («Собери свои игрушки, убери кроватку»), чем настоящий труд.
В чем же причина? Почему наши дети, несмотря на активное их желание, не могут помогать нам в наших взрослых делах? Ответ ясен: слишком многого еще не знает, не умеет ребенок. Сама мысль о том, чтобы пойти малышу навстречу и разрешить поработать на станке, за рулем комбайна, в лаборатории, кажется абсурдной.
Дело в том, что труд архаичного человека неизмеримо проще, примитивнее труда современного европейского рабочего или крестьянина. Охота, рыбная ловля, обработка земли, уход за скотом — все это совершается с применением самых примитивных орудий труда. Давайте посмотрим, как участвуют дети папуасов в обработке почвы. «Работа,— пишет Миклухо-Маклай,— производится таким образом: двое, трое или более мужчин становятся в ряд, глубоко втыкают заостренные удья в землю и потом одним взмахом подымают большую глыбу земли… За мужчинами следуют женщины, которые ползут на коленях и, держа крепко в обеих руках свои удья-саб, размягчают поднятую мужчинами землю. За ними следуют дети различного возраста и растирают землю руками». А вот как другой наблюдатель описывает охоту малышей у народов Конго: «Лежа на спине, они держат на ладони вытянутой руки немного зерен и часами терпеливо ждут, пока птица не прилетит поклевать, чтобы в тот же момент зажать ее в руке. Другой пример. К ветке дерева, на которой имеют обыкновение резвиться обезьяны, привязывается веревка, конец ее держит один из притаившихся внизу мальчиков. Уловив момент, когда обезьяна собирается прыгнуть на привязанную ветку, мальчик отдергивает ее вниз, и обезьяна плашмя падает на землю, где ее добивают маленькие охотники».
Понятно, что 4—5-летние дети при некоторой тренировке вполне могут участвовать в подобных видах труда, охоты и рыбной ловли, использовать примитивные орудия. Конечно, они собирают меньше плодов, ловят меньше рыбы, чем взрослые. Но ведь в остальном их труд ничем не отличается от труда взрослых. А разве может европейский малыш стать у мартена или сесть за штурвал самолета?
Делаем вывод: в ходе исторического развития сложность орудий труда неизмеримо возросла, а психические и физические способности маленького ребенка изменились мало. Между уровнем знаний и умений, которого требует от человека современное производство, и реальными возможностями малыша образовался разрыв. Он-то и мешает ребенку быть сопричастным деятельности взрослых.
«А нужно ли это обществу? — спросит читатель.— Ведь производительность труда тоже возросла. Так неужели нельзя обойтись без участия детей?» Конечно, можно и даже необходимо. Но все-таки давайте подумаем, не привело ли исключение детей из сферы труда к некоторым психологическим последствиям?
Помните факты, обнаруженные американским антропологом Маргарет Мид на островах Самоа? Маленькие дети на Самоа, как и все дети в мире, капризны и своевольны. Но «как только ребенок подрастает настолько,— пишет Мид,— что его упрямство становится непереносимым, ему поручают более младшего, и весь процесс повторяется снова, так что каждый ребенок дисциплинируется и социализируется посредством ответственности за более младших».
Оказывается, роль няни не только решает проблему ухода за малышом, но и приводит к воспитательному эффекту: ребенок, заставляя малышей выполнять правила поведения, начинает серьезнее относиться к ним сам.
Выходит, европейские дети, лишенные этой роли, лишены воздействия одного из эффективных средств нравственного воспитания? А что, если им вернуть эту роль? Не сможем ли мы тогда легче решить некоторые проблемы формирования у детей морального поведения? Работы А. С. Макаренко и его последователей показали: если ребенку дать роль «правилоносителя» (руководителя группы сверстников, ответственного за поддержание дисциплины или др.), его собственное поведение значительно улучшается. Даже снова став рядовым, ребенок значительно охотнее соблюдает правила, которым раньше обучал других. Да и наши опыты, как видел читатель ранее, подтверждают это.
Возьмем другой факт. Мы уже писали, что в современных цивилизованных странах одной из самых актуальных является проблема «трудных» подростков. Ученые разных специальностей объединились в своих попытках решить ее, разобраться в причинах. Было обнаружено, что в этом возрасте у детей складывается своеобразная психологическая ситуация. С одной стороны, по уровню своих умений и знаний подросток приближается к взрослым, а в чем-то и превосходит некоторых из них. Например, задачи решает такие, что не всякий взрослый разберется, даже с инженерным дипломом; прыгает и бегает — не угнаться. Ну разве может тут не появиться мысль: «Я уже взрослый»?
С другой стороны, подросток с неудовольствием убеждается: взрослый-то он взрослый, да не совсем. Денег дают только на мороженое, на фильм для взрослых — нельзя, курить тоже запрещают и т. д. А уж чтобы в 13—14 лет пойти на завод или сесть за руль автомашины, и говорить не приходится. И как высокомерны эти взрослые! Хочешь понравиться сидящей рядом за партой девочке, а учитель говорит с тобой, как с трехлеткой. Выходит, для взрослых ты все еще маленький?
Иными словами, физически и интеллектуально подросток уже почти взрослый, а социально, по своим правам и обязанностям, остается ребенком. Отсюда и стремление защитить свою «взрослость»: одни начинают увлекаться наукой или техникой, другие — помогать взрослым в домашних делах, третьи — ухаживать за девочками, модно одеваться, курить. Кое-кто из взрослых хочет поставить на место «зарвавшегося» подростка. Но результат, как правило, бывает обратный: грубость, негативизм.
Каков же выход? Выход один: сделать так, чтобы подросток почувствовал уважение к себе со стороны взрослых. А это не просто. Не у всякого отца или матери, учителя хватит такта и умения говорить с подростками на равных.
А теперь вновь обратимся к архаичным культурам. Мы знаем, что подросток, прошедший инициацию, окончательно порывает с детством. Уже в 10 лет он трудится вместе со взрослыми, выполняет ту же работу, владеет теми же орудиями труда. От него нет тайн: рождение, смерть, болезнь, факты половой жизни — все это ребенок видит с детства. Инициация приобщает его к «духовной жизни» племени, дает право участвовать в обрядах и ритуалах наравне со взрослыми мужчинами. Ребенок не только изо всех сил стремится быть взрослым, но и фактически становится им в подростковом возрасте. Не удивительно поэтому, что Маргарет Мид не нашла на Самоа никаких признаков «трудного возраста».
Итак, возникает вопрос, не действует ли в истории культуры своеобразный закон сохранения: выиграешь в одном — проиграешь в другом? Конечно, освобождение детей от оков физического труда, необходимости добывать себе пищу — великое достижение культуры. Собственно говоря, оно-то и дает ребенку настоящее детство — уникальный период «свободной игры творческих сил». Но не является ли это достижение следствием некоторых «психологических потерь»?
Не приводит ли, например, к тревожным симптомам современного детства, получившим название «инфантилизм»? Особенно ярко проявляются вышеназванные симптомы у тех подростков, которых полнейшая безответственность, слепой конформизм, неспособность к сколько-нибудь деятельному и настойчивому труду иногда доводят до преступления. Слушаешь на суде их ответы и поражаешься, до какой степени духовной незрелости, потребительства и эгоизма может дойти человек, стоящий на пороге взрослости.
Давайте разберемся. Прежде всего, правомерно ли называть симптом «духовной незрелости» инфантилизмом? Не клевещем ли мы невольно на малышей, сравнивая отношение к жизни и труду, свойственное 5-летнему ребенку, с отношением, характерным для малолетнего правонарушителя? Ведь перед малышом стоят совсем иные жизненные задачи, чем перед подростком или юношей. Труд малыша, облеченный в форму игры и других занятий, по-своему не менее тяжел, чем труд взрослого человека, особенно если учесть скромные физические возможности ребенка. Просто он интереснее, разнообразнее и поэтому меньше утомляет. Да и человек будущего, освобожденный от оков тяжелого физического труда ради хлеба насущного, вряд ли будет меньше работать; скорее наоборот, перед ним встанут гораздо более сложные задачи. Но труд этот будет творческим, приносящим человеку радость.
В отличие от малышей инфантильный подросток не умеет и не хочет работать над собой. Тяга к труду творческому ему чужда в той же степени, как и тяга ко всякому другому труду. Иными словами, инфантилизм подростка или юноши — это прежде всего личностный дефект, а отнюдь не следствие периода беззаботного детства. Да и число инфантильных подростков не так уж велико по сравнению с числом трудолюбивых, умных и целеустремленных их сверстников, хотя детство последних отнюдь не было заполнено тяжелым физическим трудом.
Не будем пока делать окончательных выводов. Ведь не исключено, что если европейские культуры что-то и проиграли, то выиграли значительно больше. Так ли это? Для начала посмотрим, чем же заполняется брешь — тот период, когда ребенок уже многое знает и умеет, но еще «не дорос» до труда.
Как появилась игра?
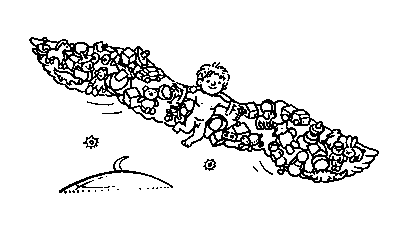
Всякий, кто хоть немного наблюдал за ребенком, знает, какое большое место в его жизни занимает игра. Вот годовалый малыш забавляется с погремушкой или кубиком; вот 2-летний ребенок часами крутит какой-нибудь новый предмет; вот группа 5-летних играют в магазин: один разложил товары, другой набирает их в корзинку, зажав в руке картонные деньги, третий сидит за кассой… А бесчисленные «догонялки» и «застукалки» на школьных переменах, «морской бой», «крестики — нолики» — чего только не придумает изобретательный детский ум! Все это — игры, но как не похожи они одна на другую!
Что же такое игра? Чем она отличается, например, от трудовой деятельности? Как различить, когда ребенок играет с ложкой, а когда «работает» ею?
«Нет ничего проще,— скажет читатель.— Когда он «работает» ложкой, то ест, а когда играет,— только воображает, что ест». Верно. Игра — это воображение. Суть ее в том и состоит, что она понарошку. А значит, в игре не вырабатывается тот полезный продукт, который производится в труде: играть в няню — значит нянчить куклу, а не живого малыша; 3-летний пожарник тушит воображаемый, а не реальный пожар. И еще это значит, что не обязательно использовать в игре настоящие, «взрослые» предметы. Ведь кормить куклу можно и палочкой, а за манную кашу тут сойдет тарелочка с песком. В конце концов так даже удобнее: кукле все равно, зато палочка и песок всегда под рукой.
Конечно, ребенок чувствует, понимает, что палочка — это не то, что ложка, а из игрушечного ружья не выстрелишь по-настоящему. Настоящее ружье, конечно, лучше. Но зато какие возможности раскрываются перед малышом, когда он впервые вступает в страну игрушек! Самолеты и корабли, машины и космические ракеты — кажется, весь мир перед ним. И не где-то там, в неопределенной дали будущего, а здесь, сегодня, сейчас можно увлеченно творить, действовать. Плыви по океану, лети в космос, лечи людей и животных — вот что дает малышу этот волшебный, резиновый и пластмассовый, уменьшенный и обобщенный мир.
Разумеется, игра игре рознь. Одно дело — игра 2-летнего малыша, другое — коллективная ролевая игра 5-летних, третье — игра с правилами у маленьких школьников. И все же есть общее. Ведь продуктом игры всегда является сам ребенок. Иначе говоря, игра — это работа ребенка над самим собой.
Важно не то, что ребенок при этом готовится к будущей взрослой деятельности, в своем воображении овладевает профессией, пока еще для него недоступной. И не то, что в игре он растрачивает избыточную энергию. Самое главное: малыш преодолевает свою естественную «ограниченность», «конечность», несовершенство. Он зримо, чувственно как бы приобщается к бесконечности. В игре он не просто летчик или строитель. Малыш путешествует на ковре-самолете, строит огромные замки. Он может все. Он неподвластен земному тяготению, времени и пространству. Ребенок ощущает себя воплощением творчества и свободы, воплощением самой сущности человека. Вот чего так не хватает нам, взрослым. Разучившись играть, мы попадаем в оковы обыденности и мелочей реальной жизни, а о всемогуществе человека вспоминаем разве что в сновидениях.
Это, конечно, не означает, что малыш сознательно ставит перед собой цель самоусовершенствоваться. Нет, ребенок и не думает об этом: он просто исследует предмет, летит на самолете, гонится за пиратами по южным морям… Вот тут-то незаметно для малыша и осуществляется у него большая работа изменения самого себя; весело, играючи осваивает он новые пласты жизни; тренирует память, мышление, воображение, получает новые знания о взаимоотношениях людей, о природе и космосе. В игре ребенок не просто Петя или Миша, а моряк, продавец, конструктор или космонавт. Выполняя ту или иную роль, он как бы готовит себя к будущему, к серьезной жизни взрослых. Можно сказать, что игра для малыша — это «машина времени»: она дает ему удивительную возможность пожить той жизнью, которая ему предстоит через много-много лет.
Писатели вспоминают о своих детских играх в мемуарах, педагоги и психологи пишут о них статьи. В современных европейских культурах существует просто-таки культ детской игры: такое большое место занимает она не только в жизни детей, но и взрослых. Но всегда ли так было?
В большинстве известных нам архаичных культур, за исключением, может быть, самых примитивных, мы встречаем элементы детской игры. Так, у американских индейцев мальчик с 2—3 лет практикуется в использовании игрушечного лука и стрел, в верховой езде; часами бросает он маленькое лассо на каждый выступающий предмет: веточку, камень, палку… Пятилетние индейские девочки нянчат тряпичных кукол в игрушечной колыбели, поют им колыбельные песни, кормят, моют, одевают и раздевают. Мальчики и девочки часто играют в войну: строят два военных лагеря, раскладывают костры; а в каждом вигваме разыгрывают жизнь семьи. У австралийских аборигенов малыши, перед тем как включиться в трудовую жизнь взрослых, играют с маленьким бумерангом, копьем, щитом, палкой для сбора овощей; собираясь группами, дети имитируют охоту, приготовление пищи, прием гостей. В Африке маленькие кафры лепят из глины игрушечные дома, кукол, коррали для скота, а потом разыгрывают сюжетные игры. Есть у них и игры попроще: манипуляции с луком и стрелами, веревочкой, качание на качелях, лабиринт и пр.
Дети имитируют не только труд и семейные отношения взрослых, но также обряды и ритуалы, которые им удается подсмотреть. В игре ребенок не просто воспроизводит предметы и действия взрослых, но и проявляет творчество: изобретает собственные варианты ловушек для птиц, мастерит новые музыкальные инструменты, создает художественные изделия и т. п. Примеры детских игр у разных народов земного шара можно приводить бесконечно.
Но все эти народы — наши современники. А была ли детская игра у наших далеких предков?
Вот некоторые факты. Немецкий археолог Шлиман, обнаруживший один из древнейших городов — Трою, организовал раскопки, в ходе которых были найдены детские игрушки: терракотовая кукла, погремушка с металлическими частицами внутри, маленькая игрушечная посуда. В Египте рядом с мумиями детей, пролежавшими тысячи лет, находили куклы и другие игрушки. Много игрушек было обнаружено в раскопках римского города Помпеи, погибшего при извержении Везувия, в могилах времен бронзового века, расположенных на территории Европы и Кавказа, в скифских курганах. В развалинах древнего перуанского города была найдена мумия ребенка, а рядом с ней — погремушка, сделанная из морской раковины.
Советский психолог Е. А. Аркин сделал вывод: игра и игрушка — это и есть то общее, что характеризует детство у всех народов и во все времена. Современные дети имеют больше времени для игры, чем дети наших далеких предков; у наших детей больше игрушек, чем у детей древности, но суть игры не изменилась: по-прежнему дети упражняют свои умения в играх с волчком, веревочкой, трещоткой и т. п. Так ли это?
Возьмем, например, игрушку. Для чего нужна ребенку кукла? Ответ известен: для того, чтобы было кого кормить, одевать, купать… Ведь такая тренировка пригодится девочке в ее будущей жизни, поможет выполнять нелегкие обязанности матери. Но это с нашей, европейской точки зрения. А вот носители пралогического мышления думают иначе. Конечно, кукла нужна и для тренировки, но основное не это. Главное — в той магической силе, которая заключена в ней и которая, конечно же, поможет девочке стать матерью, убережет от бесплодия. Советский исследователь Богораз-Тан, наблюдая за игрой чукотских девочек, писал об их основной игрушке — кукле: «Куклы эти считаются не только игрушками, но отчасти и покровительницами женского плодородия. Выходя замуж, женщина уносит с собой свои куклы и прячет их в мешок в тот угол, который приходится под изголовьем, для того чтобы воздействием их получить скорее детей. Отдать кому-нибудь куклу нельзя, так как вместе с этим будет отдан залог плодородия семьи. Зато когда у матери родятся дочери, она отдает им играть свои куклы, причем старается разделить их между всеми дочерьми». А разве не такую же роль магического воздействия выполняют и другие игрушки — все эти копья, луки, ножи, которые родители вкладывают в руки даже новорожденным? Ведь ни о какой тренировке тут и речи не может быть. Лишь постепенно, по мере исчезновения пралогического мышления в европейских культурах, игрушка освобождалась от своих магических свойств и становилась обычной игрушкой, такой, какой знаем ее мы.
Выше уже говорилось, что и в архаичных культурах игра не только магическое средство обеспечения плодородия или склонности ребенка к труду. Это также и подготовка к труду. Но ведь разный труд требует разной подготовки. В одних, самых примитивных культурах, труд — это собирание корней, червей, улиток; в других — земледелие, скотоводство; в третьих — строительство домов и обработка металлов. У одних народов используются простейшие деревянные орудия, у других — каменные нож и топор, лук и стрелы, аркан и копье. А современные цивилизованные страны с их электронной техникой, ядерными реакторами и тяжелой индустрией?
Развитая экономика требует сложных орудий труда; значит, чтобы ребенок был способен научиться ими работать, ему нужна сложная и длительная тренировка — игра. В архаичных культурах орудия труда просты, следовательно, просты и детские игрушки, меньше время, необходимое для игры. Иными словами, каков труд, такова и игра. Игра — дитя труда. Но не всякого, а более или менее сложного, требующего подготовки, тренировки. Так считает известный советский психолог Д. Б. Эльконин.
Игра, полагает он, по своему содержанию восходит к труду взрослых. Маленький эскимос играет с волчком, жужжалкой — прекрасно. Так он овладевает вращательными движениями, которые пригодятся ему в дальнейшем, чтобы делать крепления для нарт. Негритянский ребенок играет с веревочкой — это поможет ему впоследствии постичь искусство плетения сетей. Современные европейские дети играют в продавцов, докторов, моряков — разве такие игры не помогут им через 10—12 лет определить свою будущую профессию и овладеть ею? Конечно, не следует думать, что ребенок станет именно тем, в кого он любит играть. Жесткой связи тут нет. Но какие-то общие навыки, умение ориентироваться в отношениях взрослых, знания о мотивах и смысле деятельности взрослых людей, безусловно, пригодятся ему в будущем.
«А зачем ребенку тренировать себя именно в игре? — могут спросить меня.— Разве он не может приобретать навыки, помогая взрослым в их делах?»
Вопрос правильный. Но вспомним предыдущую главу. Дело в том, что на определенной ступени развития цивилизации труд и его орудия настолько усложнились, что ребенок просто не может освоить их в натуральном виде. Психические и физические способности малыша явно не дотягивают до того, чтобы он был в состоянии охотиться на бизона с большим тяжелым луком или вести самосвал. А желание есть, и какое!
Тут-то и приходит на помощь игра. Маленький лук, игрушечный самосвал, немного воображения — и малыш уже охотится в прериях или везет тяжелые грузы. Неважно, что маленькая стрела попадает не в бизона, а в дерево, а грузом оказываются кубики. Главное, ребенок практикуется с луком и стрелами, усваивает образ действий шофера.
А это значит, что в тех культурах, где ребенок с первых лет жизни включается в труд взрослых, его игра либо должна быть очень примитивной, либо отсутствовать вообще. Там она просто не нужна. В самом деле, зачем малышу играть в сбор съедобных растений, если он и так собирает их с матерью и отцом; зачем ему играть в няню, если он уже нянчит младшего брата; к чему лепить из глины овец, если он пасет настоящих? И действительно, стоит подробнее ознакомиться с литературой о детстве в разных культурах, и мы увидим: дети играют как раз в то, что им недоступно в реальной жизни, или в то, во что их не пускают взрослые. Так, Маргарет Мид отмечала, что на Самоа, где дети очень рано начинают трудиться, они почти не имитируют в игре трудовую деятельность взрослых; их игра — это игра-отдых (песни, танцы, и др.).
И еще любопытный факт. В большинстве архаичных культур игрушки детей — миниатюрные копии орудий труда взрослых. Из маленького лука можно стрелять, как из большого; маленький аркан кидают так же, как и большой аркан. Вся разница — в размерах.
В современных индустриальных культурах игрушки — лишь внешнее подобие предметов, используемых взрослыми. Из игрушечной пушки не выстрелишь, в маленький самосвал не сядешь за руль, а пластмассовая ракета не взлетит. Подобные игрушки не очень-то годятся для тренировки умений пользоваться настоящей пушкой, самосвалом или ракетой. Но зато как удобно с такими игрушками копировать отношения людей! Шприцем из игрушечного «Айболита» не сделаешь укол, зато вдоволь побыть доктором и пообщаться с пациентами он позволяет вполне. На игрушечной милицейской машине можно сколько угодно задерживать нарушителей правил уличного движения, и для этого вовсе не нужно садиться за ее руль.
Иными словами, чем сложнее делаются формы и орудия труда, тем менее игрушки становятся простой имитацией орудий. И тем больше детская игра из тренировки на владение орудиями превращается в тренировку умения исполнять какие-то обязанности в обществе.
* * *
Итак, игра есть деятельность, которая заполняет досуг ребенка по мере того, как ход истории освобождает его от труда. И тут мы, наверное, подошли к самому главному для понимания сущности детства. А может быть, и не только детства, но и сущности человека вообще.
Известно, что труд создал человека. Но что произойдет, если человек заставит работать машины и тем освободит себя от необходимости заботиться о куске хлеба? Что будет, если созданная людьми машинная цивилизация не только даст человеку бесплатный хлеб, но и удовлетворит все его насущные материальные потребности? Разве тогда он перестанет быть человеком? Разве уйдет спокойно «на пенсию» и начнет пожинать плоды труда прошлых поколений? Умственно и физически деградировать?
Мы можем быть спокойны: этого не случится. Не случится потому, что сущность человека — не труд ради куска хлеба, а саморазвитие дремлющих в нем творческих сил. И лучшее доказательство тому — наши дети.
Разве современный ребенок, освобожденный цивилизацией от необходимости трудиться ради пропитания, обеспеченный всем, чего душа пожелает, пребывает в бездействии и лени? Ничего подобного. Нет более активного, деятельного, подвижного, творческого существа, чем накормленный, одетый, здоровый ребенок! Вот эту творческую, свободную деятельность детей мы и называем игрой. «Игра», «творчество», «развитие» — недаром эти слова так часто употребляются рядом. Ребенку органически чужды лень, бездействие.
Подведем итоги. В современную эпоху в европейских (и не только европейских) странах впервые в истории создалась ситуация, когда дети освобождены от труда. В жизни человека возник уникальный период, свободный от груза насущных потребностей. Период свободной, творческой работы над собой. Этот период мы и называем детством, а эту работу — игрой.
Мы уже говорили, что для ребенка игра является «машиной времени»: она дает малышу возможность заглянуть в его собственное будущее. Но не есть ли она нечто большее? Не увидели ли мы в этой «машине времени» судьбу всего человечества, жизнь, словно по мановению волшебной палочки прилетевшую к нам из будущего? Разве не мечтали тысячелетиями люди освободиться от вечного беспокойства о хлебе насущном? А что же они будут делать тогда?
Работать над собой. Работа эта нелегкая, но интересная. Работа, которую хочется делать всегда.
Всегда ли была школа?
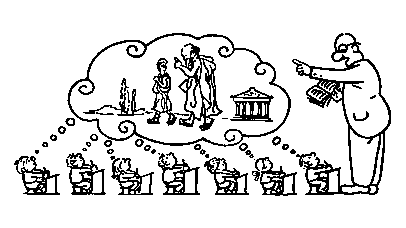
Десять лет — примерно седьмую часть жизни — проводят современные дети в школе. Вот сколько времени надо, чтобы подготовиться к современному производству! Что же делает ребенок в школе? Овладевает грамотой, умениями и знаниями, короче, совершенствует свой ум и тело. Этот процесс мы и называем учением. В отличие от воспитания — формирования личности и характера. Конечно, школа занимается также и воспитанием. Но основная ее задача — обучение.
Современная средняя школа в СССР и других европейских странах — явление сложное. Масса учебных предметов, программ, учебников. Миллионы учителей. И, конечно, науки — педагогика и психология. Науки, призванные дать ответ на вопрос, как в эти десять лет вместить катастрофически возрастающий объем информации. А делать это становится все труднее. Вот и получается, что разрыв между уровнем преподавания учебных предметов и уровнем развития науки все увеличивается.
Пути преодоления этого разрыва могут быть разные. Для начала посмотрим, как решали свои проблемы обучения общества, находившиеся на более низких ступенях цивилизации.
В самых простых архаичных культурах мы не находим специальных форм обучения. Его там просто нет. Взрослые и не думают учить малышей обрабатывать почву, охотиться, рыбачить. Считается, что вполне достаточно магически приобщить ребенка к орудиям труда (как это делается, мы уже знаем), а там все произойдет само собой. Вот и приходится малышам присматриваться к действиям взрослых, а потом копировать их в игре.
Часами африканский малыш наблюдает, как отец работает на гончарном круге или управляется с рыбацкими снастями. Затаив дыхание, смотрят дети на ритуальные пляски во время праздников, а затем в одиночку или группами пытаются подражать. Такое «обучение путем наблюдения» существует во всех культурах, в том числе и в наших, европейских. Оно очень напоминает то, как ребенок овладевает речью. Ведь специально его не учат говорить, и все же маленький несмышленыш с фантастической быстротой осваивает самый сложный язык, а то и 2—3 сразу. Похоже на чудо, но это так.
В более сложных культурах мы встречаем новые по сравнению с архаичными культурами элементы. Тут родители, «воздав богу — богово, а кесарю — кесарево» и магически приобщив ребенка к орудиям труда, начинают учить его. Никакой системы нет; просто отец или мать за работой время от времени показывают малышу, как плести сеть, строить хижину, различать следы разных животных, готовить еду… Вечерами, сидя у костров, взрослые рассказывают предания о богах и героях, нравоучительные истории, притчи. Так ребенок знакомится с мифологией и историей племени, моральными и этическими нормами.
Обучение старших детей уже более целенаправленно. В ходе исторического развития у некоторых народов возникали специальные общества молодых людей, своеобразные архаические интернаты, где юноши жили, работали и учились. Так, на Самоа юноши до 17—18 лет находились дома, а затем вступали в специальное общество — аумага. Обществом руководили старейшие и уважаемые члены племени. Юноши аумага вместе жили, охотились, рыбачили, работали на полях. Каждый из них обучался какому-нибудь ремеслу: строительству хижин, резьбе по дереву, ораторскому искусству. После окончания обучения юноша награждался титулом «матаи» — вождя семейного клана. В Японии по сей день сохранились подобные общества, существующие уже тысячу лет.
Другой формой обучения юношей и девушек служили обряды и ритуалы. Вспомним обряды «посвящения во взрослые». Конечно, основная функция — воспитание, формирование личности, но в ходе инициации осуществляется и обучение: юношам и девушкам сообщают нормы жизни взрослых людей, их учат ритуальным танцам, показывают священные предметы (маски, чуринги, фигурки идолов).
Характерная черта архаичного обучения — огромная дистанция между учителем и учеником. Учитель в глазах ученика — не просто человек, который больше знает, умеет. Он — «мастер», носитель высшей мудрости. Учитель не может быть не прав; все, сказанное им,— непререкаемая истина. Учение сводится к повторению и зубрежке. Кроме того, ученики еще и слуги своего учителя: помогают ему вести хозяйство.
Итак, мы видим: в более развитых архаичных культурах обучение уже не является целиком стихийным, неуправляемым. Обучают тут не родители или случайные люди, а «специалисты» — шаманы, монахи, мудрецы. Но все же школой такую форму обучения еще не назовешь. Нет ни программ, ни учебников. Да и отношения между учителем и учеником какие-то неучебные, эмоциональные. Подросток (юноша) целиком находится под обаянием личности учителя, стремится не просто чему-то научиться, но и впитать в себя «высшую мудрость», «магическую силу», носителем которой тот является. Собственно же обучение дело второстепенное
Совсем не то современная школа. Здесь обучение — главное занятие учеников и учителей. Есть четкая программа, учебник Да и учитель уже не носитель высшей мудрости, не обладатель магической силы, а просто толкователь учебников. Это, конечно, не значит, что каждый педагог мирится с такой ролью; хороший учитель всегда вносит в свою работу что-то личное, индивидуальное. Но все же основная задача педагога — объяснить учебник, а все остальное — дело его инициативы, мастерства, таланта.
И еще характерный момент: если учитель по ходу объяснения ошибается (все ошибаются, учителя тоже), ученики поправляют его. Ведь в руках у детей учебник, есть с чем сравнить, и все то, что исходит от учителя, вовсе не является для них непререкаемой истиной. А могут ли учитель и ученик завести какие-то неформальные отношения? Могут, но другие их осудят. И, наверное, будут правы: один, два — любимчики, а как же остальные?
Возникает вопрос: как и когда архаичные «институты» наших далеких предков преобразовались в современную школу? Оказывается, наша школа не так уж и молода. Еще в Древнем Китае дети знатных родителей ходили в школу, учились читать и писать иероглифы, изучали философию, литературу. Существовали школы в Индии, Малой Азии, Египте. В некоторых школах готовили священников, жрецов; они больше походили на архаические. В других, мирских, готовили писцов, служащих. Это и были, очевидно, «прародители» современной школы.
Школы Древней Спарты — агеллы — еще не были чисто учебными заведениями. Мальчики поступали туда с 7 лет. В агеллах они жили, привыкали переносить голод, холод, жажду, занимались спортивными упражнениями, воинским делом; обучались музыке, пению, танцам, основам грамоты. Обучение было тесно связано с воспитанием качеств воина и рабовладельца. В Древних Афинах мальчики с 7 лет поступали в школу грамматиста, где усваивали грамоту и счет. Затем в школе кифариста изучали литературу, музыку и пение, овладевали искусством декламации. В 13—14 лет мальчики переходили в палестру — школу борьбы, где занимались физическими упражнениями. Дети из богатых семей после палестры поступали в гимнасию, где изучали философию, политику, литературу, а также гимнастику. Наконец, 20-летние юноши переходили в эфебию — своеобразную военную академию. В эфебии их учили обращаться с военными машинами, строить укрепления, нести гарнизонную службу. Конечно, такое образование было доступно немногим; дети ремесленников осваивали какое-нибудь ремесло дома, не говоря уже о детях рабов, вообще лишенных возможности учиться.
В Древнем Риме, наоборот, дети знатных людей обучались гувернерами на дому, а дети бедняков ходили в общественные школы, где преподавались элементы математики и грамота. После завоевания римлянами Греции в Риме появились греческие грамматические и риторические школы. Ученики этих школ овладевали грамматикой латинского и греческого языков, изучали мифологию и литературу, ораторское искусство. Ведь в Древнем Риме только хороший оратор мог стать государственным человеком, сенатором или полководцем.
В средние века обучение ребенка по-прежнему зависело от того, в какой семье он родился. Дети ремесленников, как и в древности, учились ремеслу у родителей. Дети священников осваивали премудрости грамматики, риторики и философии в монастырских и архиерейских школах, а задачей мальчика из знатной семьи было овладеть семью рыцарскими добродетелями — умениями ездить верхом, плавать, владеть копьем, мечом и щитом, фехтовать, охотиться, играть в шахматы, слагать и петь стихи. Сражаться на турнирах, блистать в высшем обществе, служить даме сердца — таковы были основные занятия знатного юноши. Уметь читать и писать для него было совсем не обязательно.
Лишь в XVI в., в эпоху Возрождения, в городах Европы появляются школы с 8—10-летним обучением. И это не случайно: ведь эпоха Возрождения — время бурного расцвета почти всех видов искусства, время нового этапа в развитии науки и техники. Количество знаний, добытых людьми у природы, умножилось во много раз. Их уже невозможно было бессистемно преподносить детям.
Наконец, в XVII в. знаменитый чешский педагог Ян Амос Коменский написал свою «Великую дидактику», которая, по существу, и легла в основу современного школьного обучения. Он разработал школьную программу, придумал уроки, перемены, четверти. Предложил новую систему общения — «класс — учитель».
Последнее, пожалуй, было самым важным нововведением. Ведь до тех пор обучение являлось в целом индивидуальным: даже если детей было много, учитель обучал каждого в отдельности. Основой обучения все-таки оставалось личное общение, напоминающее общение родителей с детьми. Теперь же учитель учит одному и тому же целый класс — группу учеников, подобранных по возрасту и способностям. На личное общение с каждым его просто не хватает.
Вот почему общение учителя с учеником из воздействия на ум и личность ребенка превращается преимущественно в воздействие на ум. А это и значит, что обучение отделяется от воспитания, и становится главной задачей школы. Выгода от такой системы очевидна. Ведь при индивидуальном обучении учитель может охватить в одно и то же время двух-трех учеников, а при коллективном — в десять раз больше. Да и учение делается более компактным: вместо того чтобы заниматься с тремя разными питомцами месяц, можно объяснить то же тридцати «одинаковым» за неделю. Стало быть, решается главная учебная задача «машинного века» — за меньшее время больше знаний.
Как же стандартизовать детей, подбирать их по способностям и умениям? Очень просто. Обычно используют два критерия — возраст и умение решать задачи. Например, в современной Англии любой 5-летний ребенок поступает в двухгодичную школу для малышей, а затем в начальную школу (с 7 до 11 лет). Но вот приходит время специальных экзаменов, которые и определяют его дальнейшую судьбу. Для тех, кто лучше всех решит экзаменационные задачи, открываются хорошие перспективы: их принимают в школы, готовящие к поступлению в университет или технический институт. А для тех, у кого результаты похуже, остаются «современные школы», не дающие права поступления в высшее учебное заведение. Но зато в каждой из этих школ дети подобраны по уровню знаний и обучать их легко. Конечно, в первую категорию детей большей частью попадают отпрыски обеспеченных родителей, ведь в их распоряжении и дорогие учебники, и репетиторы. В нашей стране нет системы тестового обследования и отбора, как в Англии, но проблема стандартизации учеников по знаниям существует. Неуспевающих оставляют на второй год или же их срочно подтягивают на дополнительных занятиях. Не секрет, что порою таким детям просто завышают оценки. В некоторых странах, например в Венгрии и Чехословакии, стандартизация детей по знаниям осуществляется даже до поступления в школу: дети проходят через тестирование в специальных психологических диспансерах. Конечно, по поводу применимости тех или иных тестов можно спорить, но ясно одно: без такой стандартизации современная школа работать не может, так как разрыв в уровне знаний между учениками внутри одного класса сделал бы существующую форму обучения неприемлемой.
Итак, современная школа — продукт длительной истории. Перечислим ее основные вехи. Распад пралогического мышления — исчезновение представления об учителе как носителе высшей мудрости и магической силы. Появление программ и учебников — превращение учителя из единственного вместилища знаний в толкователя учебников. Возникновение системы «класс — учитель» — отмирание индивидуального обучения. Отделение обучения от воспитания — разрыв эмоционально-личностных связей учителя и ученика; усиление насыщенности обучения информацией.
А теперь вернемся к проблеме дня. Наука и техника развиваются стремительно, объем информации растет как лавина. А век человеческий краток. Когда-то человеку хватало и трех лет учебы, потом восьми… Теперь недостаточно и десяти. А ведь это предел. Нельзя учиться в школе 15—20 лет. Не останется времени на творчество, труд. Вывод один: резервы современной школы подходят к концу. Ни классно-урочная система, ни дополнительный срок обучения уже не спасут.
Где же выход? Заменить учителя машиной, ввести программированное обучение? Можно. Правда, при этом личное общение ребенка с учителем прекратится вообще; но ведь оно и сейчас сведено к минимуму. Ученикам, собственно, терять нечего. Зато приобрести можно многое. Учитель будет не учить, а составлять программу для машины. А значит, будет в состоянии охватить не тридцать учеников, а в тысячу раз больше.
Вести обучение по телевидению? Тоже выход. Талантливый ученый или педагог увеличит свою аудиторию в миллионы раз.
Усовершенствовать программу обучения, сделать ее более компактной? Еще лучше. Ребенку не предлагают решать частные задачи, а учат общим способам решения. Школьное время разгружается: упражнение в решении частных задач становится личным делом каждого ученика. Главное — овладеть общим способом и умением его применять.
Многие видят выход в организации проблемного обучения. Уменьшить количество стандартных задач, ненужных сведений, преподносить знания так, чтобы ребенок видел и понимал их необходимость. Можно, конечно, знакомить с понятием измерения, предлагая ребенку меру и показывая, сколько раз она укладывается вдоль двух палочек разной длины. Но ему остается неясным главное — зачем измерять.
Можно поступить по-другому: предложить малышу сравнить по длине палочки, находящиеся в разных комнатах. Без введения меры эта задача неразрешима. Пусть ребенок «помучается», подумает. И если он не «изобретет» меру сам, то, во всяком случае, поймет, почему ее вводит взрослый. Подобным способом можно знакомить детей с понятием числа и другими математическими и физическими понятиями. Можно обучать детей языкам, предлагая им самим конструировать новые, искусственные языки и т. п. Правда, такое обучение требует больше времени, но ведь оно и больше дает ребенку.
Конечно, внедрить такие методы трудно, очень трудно. Но можно. Надолго ли спасут они школу? Сказать трудно. Ну пятьдесят, сто лет… двести. А дальше?
В том-то и проблема, что эти методы тоже ограниченны. И они — не выход, а отсрочка. Почему? Да потому, что у человека одна голова, одно сердце и одна жизнь. Довольно короткая. А род человеческий живет бесконечно. И копит знания тоже бесконечно. И чем дальше, тем быстрее. Сколько лекций талантливых ученых может выслушать человек за один день? Ну две, три… четыре. Больше нельзя, даже по телевизору. Для здоровья плохо. А сколько общих способов решения задач он может освоить за день? Один-два. Допустим, три. Больше нельзя, по той же причине. Но ведь новые знания и новые способы появляются постоянно, а в сутках по-старому 24 ч. Настоящий «тупик цивилизации».
Вот и получается, что выход надо искать в другом направлении (если, конечно, в наши рассуждения не вкралась ошибка). Поскольку невозможно дать человеку всех знаний, накопленных человечеством, нельзя дать даже всех основных знаний и даже всех нужных для жизни знаний, значит, необходимо отказаться от этой идеи.
Рассмотрим простой пример. Случай первый: есть условия задачи и формула. Подставляем условия в формулу — получаем ответ. Случай второй: есть условия, а формулы нет. Думаем и получаем ответ. Первый способ решения — не творческий, второй — творческий. Творчество — это и есть правильное решение при отсутствии формулы.
Какую формулу надо было знать Рафаэлю, чтобы написать «Сикстинскую мадонну»? А Эйнштейну, чтобы создать теорию относительности? Наверняка эта формула отсутствовала среди тех, которые он знал. Не исключено даже, что были люди, знавшие больше формул. Но теории относительности они не создали.
Отсюда вывод: надо сделать так, чтобы человек мог решать задачи при дефиците знаний. Творчески. Это и есть кардинальный выход из «тупика цивилизации». А как этого достичь?
Нередко думают, что талант рождается с человеком, заложен в его генах. Если так, то все, что мы можем сделать,— это выявить талантливого ребенка и помочь ему развить свой талант. Но в таком понимании таланта кроется некий «биологический фатализм» и даже апелляция к непознанному. Пока еще никто не выявил «гены таланта» и неизвестно, будут ли они найдены вообще.
Возможен и другой взгляд, более оптимистичный для психологии. Талант — прижизненное образование, результат уникального сочетания внешних воздействий и собственной активности ребенка, в котором наследственность играет важную, но не определяющую роль.
Для нас ясно одно: научить творчеству нельзя. Научить можно формулам, а творчество — это работа без формул. Нельзя сделать из зерна колос. А вот создать условия, при которых из зерна вырастает колос, можно. То же и с творчеством. Нельзя с помощью какого-то алгоритма заставить человека творить. Но создать климат, благоприятный для появления ростков творчества, возможно. Это и будет тем, что мы называем «творческим климатом», «творческой атмосферой».
В чем же суть такого климата? Насколько мне известно, в общении. В человеческом общении. Но в общении не со всяким человеком, а с творческим. Творчество заразительно. Ведь у всех, или почти у всех выдающихся творческих людей были хорошие учителя. Пусть не всегда такие великие, как их ученики, но обязательно с «изюминкой», с какой-то «особинкой». Они, видимо, и заразили своих учеников «бациллами творчества». Почитайте мемуары художников, писателей, ученых. Вряд ли вы найдете человека, который бы мог сказать: «Своим талантом я обязан только самому себе…»
Конечно, «творческий заряд», «бациллы творчества» — не более чем метафоры. А что же в самом деле происходит при личном общении (только обязательно личном) с талантливым, творческим человеком? Происходит удивительная вещь: вы — обыкновенный, никому не известный человек — сказали какую-то мысль, а он — всеми признанный талант — ответил вам, что это хорошо. Что он тоже так думает. И вот уже у вас пропадает робость, появляется удивительное ощущение «я тоже могу». Возникает внутреннее раскрепощение. И начинается творчество.
«А как же знания? — спросите вы.— Разве можно творить на пустом месте, не имея опыта?» Конечно, нет. Опыт нужен, знания нужны. Но ведь мы говорим о том, как решать задачи при дефиците необходимых знаний, а не при полном их отсутствии.
К чему же мы пришли? А вот к чему. Современная школа при классно-урочном методе обучения сводит личное общение ученика и учителя к минимуму. В перспективе (программированное обучение) — к нулю. А о каком общении на равных можно говорить, если он — учитель — вещает откуда-то с недосягаемых высот языком машины или телеэкрана? Вот и создай тут творческий климат. Иными словами, совершенствование процесса вкладывания знаний в голову ученика идет за счет ослабления творческого климата. А это верный путь к тому, что мы назвали «тупиком цивилизации».
Великий древнегреческий философ Сократ любил, гуляя со своими учениками в саду, беседовать. Беседовать на равных, и не со всеми сразу, а с каждым в отдельности. И, наверное, не случайно, что двое из его учеников — Платон и Ксенофонт впоследствии стали великими мыслителями.
Так что же — снова к индивидуальному общению? Увы, другого пути нет. Но не к такому общению, которое господствовало у древних, когда учитель-жрец устами «самого бога» изрекал непререкаемые истины, нет, к личному общению ученика и учителя на равных. Только так можно создать атмосферу творчества. Только так можно сделать, чтобы и через сто, и через тысячу лет ученик, усваивая доступный минимум знаний, все же оказывался способным двигать науку. К тому же при таком обучении школа из места обработки ума превратится в мощный фактор нравственного воспитания.
Каждый выдающийся художник, ученый, ведя преподавательскую деятельность, имеет и «личных» учеников. А талантливые учителя? Разве мирятся они с ролью толкователей учебников? Почитайте, например, Сухомлинского.
Конечно, мы далеки от наивного призыва целиком вернуться к старым методам обучения. Сегодняшний день требует от учителей и даже родителей все больших профессиональных педагогических знаний. Но профессионализация учителя — не препятствие для индивидуального обучения. Обучение будущего на новой основе может воспроизвести только отдельные стороны архаичного обучения. Ведь с диалектической точки зрения такое возвращение к старому на новой основе есть не регресс, а развитие.
Помните, в предшествующей главе мы определили игру как «работу над собой»? Школа — это тоже работа над собой. Но как же не похожи эти работы друг на друга! Равенство всех перед правилами игры и полярность позиций ученика и учителя. Свободное творчество в игре и обязательная школьная программа.
Индивидуально-личное общение со взрослыми в игре и обезличенно-официальное — с учителем. Играет ребенок всегда потому, что ему хочется, а уроки делает часто потому, что боится наказания. Игра — это деятельность просто так, ради нее самой, а учеба — деятельность ради чего-то другого. Не ради насущного хлеба, конечно, но ради хороших отношений со взрослыми, авторитета у сверстников, будущих благ и т. п.; не так уж много детей, которые учатся на основе чисто познавательных интересов. Игра— это чудный мир детства, а школьный труд — какое же это детство? Это труд, посложнее труда взрослого.
А вот атмосфера индивидуального обучения на равных в чем-то напоминает атмосферу игры. Это, конечно, не значит, что учение станет игрой. Но какие-то элементы самого светлого и радостного периода человеческой жизни — дошкольного детства — поднимутся еще на одну ступеньку по возрастной шкале.
«Машина детства»
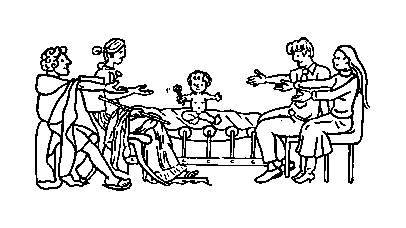
Знаменитый французский ученый Кювье, создатель научной палеонтологии, был первым, кто научился по кости какого-нибудь ископаемого животного восстанавливать весь скелет его и даже внешний облик. Теперь это не кажется удивительным. Ведь кость — это часть организма. А в каждой части организма, как в капельке воды, отражаются особенности целого.
В предшествующих главах мы с вами говорили о разном: о ценностном отношении к ребенку, о методах воспитания, трудовой деятельности, игре, обучении. И все же, наверное, у нас было ощущение, что все это связано между собой. Ведь детство — это своеобразная машина, или, вернее, организм. Сложный, разветвленный. Как и у всякого организма, у него есть свои «легкие», «сердце»… Он «дышит», «двигается», «болеет». Словом, живет. До сих пор мы как бы рассматривали его под микроскопом, изучали отдельные «клетки» и «органы». Теперь поговорим о целом.
Для того чтобы увидеть «организм детства» изнутри, попытаемся сделать срез. Конечно, чисто теоретически. Что мы увидим?
Ну, разумеется, прежде всего ребенка. Но что такое ребенок? Каждая наука видит его по-своему. Для физики он — физическое тело. Для биологии — организм. А для психологии? Для психологии — существо, обладающее какими-то знаниями, умениями, навыками, потребностями, желаниями и т. п. Вот с этого мы и начнем.
Прежде всего, как это измерить? Физик может взвесить ребенка, физиолог — изучить работу внутренних органов. Психологи тоже могут измерить свою «часть»; с помощью специальных методик (тестов) они определяют, на что способны память, мышление, восприятие, воображение ребенка.
Что такое тест? Буквально — это проба, проверка. Возьмем, к примеру, широко известные «загадочные картинки». Вам дают две одинаковые картинки, и надо определить, чем они отличаются друг от друга. Не так-то легко заметить, что на одной картинке клюв у воробья чуть больше, чем на другой. Кто-то увидит отличие быстро, кто-то не сразу. Это — тест на внимание. Или задача на сообразительность. Один решит, другой нет. Это — тест на мышление. И т. д.
Французские психологи Бинэ и Симон, например, еще в начале века разработали целую серию тестов для детей. Тут и задачи с числами, и комбинации геометрических фигур, и нелогичные фразы вроде: «Один несчастный велосипедист разбил себе голову и тотчас же умер. Его доставили в больницу и очень боятся, что он не выздоровеет». Сообразит ли маленький ребенок, где скрыта ошибка? Бинэ и Симон создали шкалу, с помощью которой можно было определять, отстает ребенок по умственному развитию от сверстников, опережает их или находится на одинаковом с ними уровне.
Но это было только начало. Сейчас в психологии разработаны сотни подобных шкал. Да только ли в психологии? А школьный диктант, контрольная — разве чем-то они не напоминают нам тесты? Сразу ясно, кто хорошо усвоил материал, соображает, а кто отстал. А ежедневное общение с ребенком дома? Ведь мы, сами того не замечая, постоянно решаем для себя: это малыш может, а это — нет, на это он способен, а это придет позже. Иначе как бы мы определяли, какие ему надо покупать книжки, игрушки, на какие фильмы водить, а на какие нет.
Измеряются не только знания и умения малыша, но и его потребности, желания. Правда, не так уж точно. Но все же взрослые без труда определяют, например, хочет или не хочет ребенок соблюдать те или иные моральные требования. Часто бывает, что малыш обманывает взрослых или нарушает правила поведения за столом, хотя и прекрасно знает их. Ясно: дело тут не в недостатке знаний и умений, а в нежелании ребенка быть честным, аккуратным и т. п.
Вот мы и описали сразу два элемента «машины детства». Назовем их «способности ребенка» и «общественная оценка способностей».
Сразу оговоримся: под способностями мы имеем в виду не устаревшее представление о генетически заложенных, врожденных качествах; для нас общие способности — это та сумма умений, знаний и навыков, которыми к данному моменту своего развития овладел ребенок, плюс те возможности, которые ему даны от природы (возможность выработки условных рефлексов или врожденные реакции), и др.
Конечно же, эти элементы существуют везде, где есть дети, во всех культурах и во все времена. Другое дело, какие способности ребенка в том или ином обществе считаются значительными и как они измеряются. Нам известно, например, что в архаичных культурах одной из главных способностей ребенка считается степень его «магического приобщения» к племени. С нашей точки зрения, это явная нелепость. Но и в архаичных культурах родители думают над тем, в каком возрасте ребенка можно брать на охоту и рыбную ловлю, какую работу ему поручать, когда подвергать инициации и т. п., т. е. оценивают его реальные способности.
Теперь добавим еще один элемент — то, как ребенок сам оценивает свои способности. И в самом деле: как общество в лице родителей и педагогов оценивает возможности ребенка, это одно, а как он сам себя оценивает, это совсем другое. Опыт показывает, что нет малыша, который не хотел бы стать взрослым. А если очень хочется быть взрослым, трудно не завышать свои возможности. Так и получается. Конечно, каждый ребенок понимает, что не сошьет на швейной машинке настоящего платья, не напечатает на пишущей машинке и строчки связного текста. Но найдите малыша, который отказался бы шить или печатать. И если уж мы, взрослые, не всегда правильно представляем себе свои реальные возможности, то что говорить о детях!
И еще: малыш не только оценивает себя сам, но и учитывает, как относятся к нему взрослые. Уже в 3 г. ребенок не хуже нас с вами чувствует отношение к себе окружающих. Ему не безразлично, признают или не признают его «взрослость», доверяют или не доверяют настоящее дело. Эту оценку ребенком себя самого и того, как к нему относятся взрослые, назовем «самосознанием». Итак, получаем триаду: способности ребенка — общественная оценка этих способностей — самосознание.
От чего же зависят способности ребенка? Во-первых, от биологических факторов: зрелости его тела и мозга. Ребенок, рожденный дебилом, не станет психически нормальным человеком. Роковую ошибку природы, как это ни печально, не исправить воспитанием. Во-вторых, конечно, от обучения. Ведь мышление, память, восприятие не растут подобно дереву, чтобы они сформировались, ребенка надо учить. Учить мыслить, запоминать, воспринимать. А что будет, если не учить? Наверное, то же, что и с индийской девочкой Камалой, потерявшейся в джунглях и выросшей среди волков; найденная в 5-летнем возрасте, Камала не обладала человеческими психическими способностями; даже передвигалась, пила и ела она, подражая волкам.
Наконец, от воспитания — формирования потребностей и желаний. Ведь желаниями ребенка можно управлять. Либо путем наград и наказаний, либо путем придания ему позиции «проводника и защитника» норм поведения, либо как-то еще… Назовем эти три элемента так: «созревание», «обучение» и «воспитание». Добавим их к трем предшествующим и пойдем дальше.
Для чего нужно взрослым оценивать способности ребенка? Конечно, для того, чтобы решать, что можно с ним делать, а что нельзя. Можно ли доверить ему радиоприемник, взять на охоту, попросить приготовить обед? Читать ли ему «Муху-Цокотуху» или «Праздник непослушания»? Покупать игрушки или школьные принадлежности? Словом, для того, чтобы определять права и обязанности малыша.
Вот мы и подошли, пожалуй, к самому важному элементу «машины детства» — назовем его «общественные требования к ребенку». Важному потому, что он-то и определяет жизнь малыша, место в обществе, основное занятие. Мы видели, как по-разному обстоит дело с правами и обязанностями ребенка в разных культурах. В то время как в одних обществах дети ведут самостоятельную нелегкую трудовую жизнь, в других они безмятежно предаются игре; в одних учатся в школах, в других нянчат малышей или работают в поле; в одних еще пишут диктанты и сочинения, в других уже проходят через ритуал «принятия во взрослые», создают семьи. Да и в рамках одной и той же культуры, одного и того же классового общества права и обязанности детей из разных социальных слоев далеко не одинаковы, различны и требования, которые к ним предъявляются.
От этих требований зависит не только основное занятие ребенка, но и то, чему его будут учить. От 2-летнего малыша не потребуют изучения «Мертвых душ» или бинома Ньютона. Учение хорошо тогда, когда оно доступно ребенку, когда у него уже есть все необходимые для усвоения знания и умения. Данный фактор и определяет содержание обучения дошкольников и школьников, пятиклассников и семиклассников, а также требования к нему.
Наконец, общественные требования определяют нравственные нормы и все те многочисленные запреты, которым должен подчиняться ребенок. Если 2-летний малыш испортит бумагу на письменном столе, нам останется только упрекнуть самих себя (не уследили); если то же сделает 5-летний, мы упрекнем его, а то и накажем. А это значит, что мы четко определяем, какой ребенок способен контролировать свои действия, а какой нет, какой несет ответственность за нарушение норм, а с какого и спрашивать нечего. Если в присутствии гостей 6-летний ребенок задаст нетактичный вопрос об отношениях полов, мы улыбнемся и уйдем от ответа; если то же сделает 15-летний, мы воспримем это как грубость и невоспитанность. То же, с поправкой на иные нормы и табу, мы видим и в архаичных культурах. Папуас Новой Гвинеи не скажет и слова 2-летнему малышу, если тот сломает его любимую трубку; такой же поступок старшего ребенка вызовет у взрослого гнев и приведет к наказанию. Иными словами, общественные требования к ребенку определяют направление и способы его воспитания.
Итак, цикл «машины детства» замкнулся. От способностей ребенка к их общественной оценке; от общественной оценки к общественным требованиям; от общественных требований к содержанию обучения. Обучение же, в свою очередь, влияет на такие способности ребенка, как речь, память, мышление, восприятие: тормозит или развивает их. Или другой цикл: от потребностей и желаний ребенка к их общественной оценке; от оценки этих потребностей к их коррекции в нужном направлении, т. е. к воспитанию; воспитание же изменяет потребности и желания ребенка. От чего исходили, к тому и пришли. Значит, у «машины детства» два цикла: цикл обучения и цикл воспитания.
Такова структура «организма», или «машины», детства. Теперь попробуем выяснить, как она работает.
Начнем с новорожденного. Не успевает новый человек издать первый крик, как сразу же попадает в нашу «машину». Взрослые взвешивают, осматривают, оценивают его — и вот уже малыш на «рельсах», ведущих в будущее.
«Позвольте, но что же тут оценивать,— спросите вы.— О каких психических способностях тут можно говорить?» Верно, способностей еще маловато. В основном — рефлексы. Но есть другие, очень важные признаки; они-то и определяют судьбу ребенка в «машине детства».
Во-первых — тело младенца. Все ли «на месте»? Нормален ли мозг? Нет ли физических недостатков? Здоров ли ребенок? Родился ли он один или со своим напарником — близнецом? В главе «Дети и взрослые» мы видели, как пристрастно принимают у малыша люди этот «экзамен». Во многих архаичных культурах вопрос стоял жестко: жить или не жить ребенку? Да и в современных европейских культурах это немаловажно. Кто же осмелится утверждать, что врожденный физический недостаток не отразится на судьбе малыша?
Но допустим, малыш родился нормальным. Сразу, хотя и в стихийной форме, начинается обучение (речь, мимика, жесты) и воспитание (общение). По мере того как под влиянием обучения и воспитания способности ребенка растут, изменяется их общественная оценка, а это приводит к тому, что меняются требования к ребенку; содержание обучения и воспитания становится иным, усложняется. Словом, оба «колеса» нашей «машины» делают свое дело, «обрабатывают» ум и личность ребенка до тех пор, пока не получится «готовый продукт».
Процесс «обработки» на «конвейере детства» как бы состоит из нескольких этапов. Разумеется, в различных культурах они разные; ведь «машины» отличаются друг от друга. Если в одних культурах ребенок через 3—4 г. «выталкивается» во взрослую трудовую жизнь, то в других он еще долгое время проходит этап «первичной обработки».
В современных европейских культурах принято выделять такие этапы, как младенчество (0—1 г.), раннее детство (1—3 г.), дошкольный возраст (3—7 лет) и школьный возраст (7—17 лет). Соответственно основными занятиями детей в каждом из этих периодов являются непосредственно-эмоциональное общение со взрослыми, знакомство с миром предметов, ролевая игра и учение. Переход ребенка на каждый новый этап в европейской «машине детства» чаще всего осуществляется плавно, без особых событий. Правда, имеются и критические точки — так называемые возрастные кризисы, но о них чуть позже.
Подобные же этапы, часто более дробные, выделяются и в архаичных культурах.
Конечно, там они совсем не те, что наши этапы. Для нас переход ребенка от одного этапа к другому — следствие изменения его физических и психических способностей, не более. Для архаичного человека это означает новую ступень магического приобщения ребенка к племени или клану. Умение же малыша ползать или гулить — лишь внешний признак, языком которого говорит с нами свершающееся таинство приобщения. Поэтому праздник роста не только веселье, а магический ритуал. И если ритуал не совершен, ребенок не поднимается на следующую ступень «машины детства», в каком бы возрасте ни находился.
Короче говоря, носители пралогического мышления верили в то, что надо искусственно поддерживать работу «машины детства». Так же, впрочем, как и работу «механизмов» природы: смену дня и ночи, времён года, засухи и дождей… Лишь в европейских культурах возникло понятие круговорота природы, самодвижения, не зависящего от воли и желания человека. К таким круговоротам относится и работа «машины детства»; она сама себя движет и не нуждается ни в каком подталкивании.
* * *
Выше мы рассмотрели работу «машины детства», так сказать, по «линии возраста». Теперь посмотрим, как «обрабатывается» ребенок по «линии пола». Ведь ни для кого не секрет, что даже в обществе, где мужчина и женщина обладают равными моральными и юридическими правами, по своему психическому складу они существенно различаются. Потребности, желания, интересы мальчика и девочки, мужчины и женщины во многом разные; ведь недаром для родителей часто не все равно, кто родится — мальчик или девочка, особенно если это второй ребенок.
В чем же причина психологических различий между мальчиками и девочками? Разная анатомия и физиология? Неодинаковая работа гормонов?
Слов нет, анатомия и физиология играют большую роль. Но только ли в них дело? Ведь речь-то идет не о физиологических отличиях полов, а о различиях в психике. Обратимся к «машине детства».
Начнем опять с момента рождения. «Кого родила?» — спрашивает ассистент акушера у молодой матери, держа кричащего младенца. Ответить не трудно, сразу видно: мальчик или девочка. Природа сделала свое дело — мальчик в девочку уже не превратится. Для природы анатомические различия — только начало, «нажим на кнопку», запускающую в действие целую серию «обрабатывающих» систем. Поначалу они почти бездействуют, но к двум-трем годам их работа становится весьма очевидной. В чем она состоит?
Во многих архаичных культурах мы встречаемся с интересным запретом, табу на всякие отношения между мальчиками и девочками определенного возраста. Так, на Самоа среди детей противоположного пола не только совместная игра, но даже рукопожатие или разговор друг с другом считается недопустимым. Лишь в 13—14 лет табу на отношения мальчиков и девочек снимается; однако для братьев и сестер отношения запрещены до глубокой старости. В чем смысл этого обычая? Не в том ли, чтобы путем противопоставления заставить ребенка с первых лет осознать себя как мальчика или девочку?
Другой путь противопоставления детей по полу — разные способы сегрегации, отделения мальчиков от девочек. На островах Меланезии мальчики с 4—5 лет уходили жить в специальное общежитие, а девочки оставались дома. Во всех архаичных культурах мальчик начинает трудовую жизнь вместе с отцом: ходит с ним на охоту, работает в поле, строит хижину, помогает в ремесле. Наоборот, девочка всегда вместе с матерью: носит воду и дрова, убирает жилище, готовит обед. Поэтому и в игре дети моделируют разные стороны жизни взрослых: мальчики играют в охотников и воинов, девочки — в куклы.
Важным способом отделения мальчиков от девочек является полное отстранение последних от ритуалов. В архаичных культурах женщины и дети обычно целиком исключены из обрядово-ритуальной жизни. Она — исключительное право взрослых мужчин. Однако мальчикам, как будущим мужчинам, даются некоторые привилегии. Нетрудно представить, что чувствует маленький индеец из племени команчей, выполняя главную роль в ритуалах плодородия и глядя на стоящих в стороне девочек. И ритуалы инициации у мальчиков не в пример более суровы и длительны, чем у девочек.
А различия в одежде, украшениях, татуировке? Во многих архаичных культурах дети до 3—4 лет ходят нагими, затем девочка надевает травяную юбку, а мальчик — набедренную повязку. У индийцев раджпур девочка в 4 г. отпускает длинные волосы, ей делают проколы в ушах и перегородке носа. У австралийских аборигенов тела мальчика и девочки по-разному раскрашивают охрой, углем, украшают пухом и татуировкой.
В европейских странах работа этих «механизмов» выступает не столь ярко. Разделение мальчиков и девочек в гимназиях и школах — дело прошлого. Не существует запрета на общение мальчиков и девочек, нет каких-либо специальных «мужских» и «женских» ритуалов. Отсутствует и такой мощный способ осознания детьми половых различий, как прямое обучение детей сексуальной жизни или имитация ее детьми. Кстати, это характерно в основном для европейских стран. В большинстве архаичных культур существует обычай рано знакомить детей с фактами сексуальной жизни. У бразильских индейцев ханган разговоры или игры детей, затрагивающие вопросы пола, поощряются взрослыми. У южноамериканских пилага сексуальная активность ребенка — главный способ общения со сверстниками. Полная свобода сексуальных проявлений детей в беседе и имитации существует также у индейцев Северной Америки, полинезийцев Самоа, австралийских аборигенов. В европейских же странах на обсуждение с детьми вопросов пола наложен неписаный запрет. Мы хорошо понимаем, что было бы лучше, если бы ребенок узнал о неизбежном дома, чем на улице, но нелегко преодолеть условности культуры, даже если они явно нелепы. В самом деле, почему говорить с детьми о еде можно, а об отношениях полов — нет? Возможно, такой запрет — невольное наследие многовековой христианской культуры с ее проповедью аскетизма и греховности.
Но все же и в европейских культурах воспитание мальчика и девочки далеко не одинаково. Различия в одежде, содержании игр, дозволенном и недозволенном четко определены традициями, хотя и не всегда зафиксированы на бумаге. Короче говоря, общественные требования к поведению мальчиков и девочек во всех известных нам культурах различны. А это, как мы знаем, приводит к появлению у детей разных потребностей, желаний и мотивов. Специфического — мужского и женского — типа личности и характера. Мужского и женского стиля мышления, восприятия, поведения.
«Но это — гипотеза,— скажете вы.— А факты?» Фактов, свидетельствующих о различиях в поведении мальчиков и девочек в психологических экспериментах, можно приводить множество. Укажем лишь на один из них. Американские психологи Уайтинг и Эдвардс статистически сопоставили особенности поведения мальчиков и девочек в культурах Африки, Азии, Северной и Южной Америки. Оказалось, что там, где общественные Требования к детям разного пола сильно отличаются друг от друга, мальчики всегда более независимы, агрессивны и эгоистичны, чем девочки. Причина, видимо, в том, что на девочках значительно чаще лежит обязанность заботы о малышах, а это ослабляет агрессивные и эгоистические мотивы. Наоборот, там, где роли мальчиков и девочек отличаются друг от друга не столь разительно (например, в Кении, где дети обоих полов выполняют функции няни), различия в личности и поведении детей значительно меньше. «А зачем вообще нужны разные методы воспитания? — слышу я голос читателя.— Ведь различия между мальчиками и девочками даны от природы. Их не изменить никаким воспитанием». Давайте разберемся.
У американских индейцев прошлого века существовал интересный обычай — так называемый обычай бердашизма. Мальчик, который не мог или не хотел нести суровую, полную опасностей жизнь охотника и воина, мог отказаться от этой роли. Он одевался в женские одежды, начинал выполнять женские обязанности и становился бердашом — мужчиной, исполнявшим социальную роль женщины. У индейцев мохейв существовал даже специальный ритуал «выбора пола». Если до 10 лет мальчик не проявлял отчетливых мужских склонностей, для него устраивали особый обряд. Рано утром все племя собиралось в центре лагеря, образуя круг; мальчика вводили в центр круга, после чего музыканты исполняли ритуальные женские танцы. Если ребенок начинал двигаться в такт музыке, считалось, что он выбрал себе роль женщины. Над ним совершали дополнительные обряды посвящения, давали женские одежды, и вся его дальнейшая жизнь проходила в выполнении женских обязанностей. Такой же обычай существовал и для девочек, пожелавших принять роль мужчины.
О чем это говорит? Наверное, о том, что анатомические различия сами по себе еще не определяют будущее ребенка. Они лишь «нажимают» на нужную кнопку «машины детства», «машины», которая еще должна создать, сформировать личность мальчика или девочки. И если эта машина дает сбой, ребенок, рожденный с анатомией мальчика, социально и психологически может превратиться в девочку. Конечно, такие случаи очень редки. Но нам достаточно и одного, чтобы убедиться: анатомия становится «судьбой» лишь тогда, когда «машина детства» работает без перебоев.
* * *
«А не слишком ли ваш ребенок похож на глину или пластилин? — могут спросить меня.— Он ведь все-таки человек. Как же он сам относится к тому, что с ним делают взрослые?» Вот тут и настало время вернуться к тому элементу нашей «машины», который мы назвали самосознанием и который на время «забыли».
Да, конечно, ребенок — не пластилин. С первых дней жизни он чувствует, переживает все, что делают с ним взрослые люди. Он просто не может по-другому: ведь все это происходит не с кем-нибудь, а с ним лично. И не выразить своего отношения тоже не может. Он радуется. Молчаливо соглашается. Протестует. Но почти всегда подчиняется.
Почему? Да потому, что «машина детства» устроена очень хитро. Она не так уж часто ломает ребенка, идет вопреки его желаниям. Как мудрый король из «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери она почти всегда «приказывает» ребенку делать как раз то, к чему он и сам больше всего стремится. Вспомним, например, инициации. Больно, мучительно, трудно, но… все же нет подростка, который бы не стремился их пройти. И чем старше ребенок, тем сильнее это стремление. Дети играют в инициации, наносят друг другу царапины на тело, имитируют обрезание… Изо всех сил стараются продемонстрировать взрослым свою готовность стать мужчинами.
В европейских культурах ситуация та же. Спросите у маленького дошкольника, хочет ли он пойти в школу. Вряд ли вы получите отрицательный ответ. «Да, хочу,— ответит малыш.— Хочу, потому что у школьника есть форма, и портфель, и пенал. И потому, что ему все покупают и относятся, как к большому. И потому, что учиться интересно». Малыш еще не знает, что школа это тяжелый труд. Что это конец беззаботному детству. Но даже если бы и узнал, все равно бы стремился туда. Ведь школа — шаг на пути к заветной мечте стать взрослым. И «машина детства» услужливо распахивает перед ребенком двери школы.
И все же есть случаи, когда ребенок объявляет протест. Не хочет развиваться в направлении, которое задает «машина детства». Например, не хочет становиться мальчиком или девочкой. Или упорно не желает принимать обязанности школьника. Или, окончив школу, не хочет начинать взрослую трудовую жизнь. Что происходит тогда?
Одно из двух: либо ребенок ухитряется настоять на своем, либо «машина детства» ломает его волю. В некоторых культурах есть специальные «приспособления» для таких бунтарей. Вспомним обычай бердашизма у североамериканских индейцев: здесь «машина детства» не только не мешает, но даже способствует свободному выбору ребенка. В большинстве же случаев бунтарь идет против течения и рано или поздно бывает вынужден капитулировать. Не захочет ребенок самостоятельно есть, одеваться, приобретать культурно-гигиенические навыки, ему придется или терпеть насмешки сверстников, недовольные реплики взрослых, или быстро научиться самостоятельности. Не желает хорошо учиться в школе — будут испорчены отношения с родителями. Да и в архаичных культурах юноше, уклонившемуся от инициаций, приходится несладко: мужчины не пускают в свой круг, девушки смотрят с презрением.
Бывает и наоборот: «машина детства» не в состоянии угнаться за желаниями ребенка. Тут конфликты по другому поводу. Трехлетний европейский малыш уже многому научился: он и ходит, и говорит, и ест, и одевается самостоятельно. А заботливые родители по-прежнему относятся к нему как к маленькому, мелочно опекают каждый шаг. И слышат недовольное «Я сам» или встречают вспышки неожиданного упрямства. Это и есть знаменитый психологический кризис 3 лет — результат несовпадения самооценки ребенка и общественной оценки его способностей. Другой такой же кризис происходит в подростковом возрасте. Тут бывает и посерьезнее: ведь подросток — не 3-летний малыш. Он действительно во многом сравнялся с родителями, а кое в чем и превзошел их. Трудно не посягнуть на привилегии взрослых, не возмутиться черепашьей медлительностью «машины детства». Теперь уже не только ребенку-бунтарю, но и самой «машине» приходится кое-чем поступиться: разрешить и длинные волосы, и модные брюки…
Странная роль оказалась у этого элемента — элемента самосознания. Работе «машины детства» он не способствует. Наоборот, мешает, вносит всякие непредвиденные трудности и колебания. Да и для малыша борьба с «машиной» — чаще всего донкихотство, заранее обреченное на неудачу. И все же… как хорошо, что этот элемент есть! Ведь иначе мы получали бы не людей, а пассивные автоматы с гладкой обточенной на «конвейере детства» психикой. Людей со штампованными желаниями и потребностями, с одинаковым мышлением. Людей, неспособных к творческим, нестандартным решениям.
* * *
Вот мы и узнали кое-что о «машине детства». Описали ее структуру. Попытались разобраться в механизме работы. Теперь настало время спросить: а чем же современная «машина детства» отличается от «машин» предшествующих эпох?
Ответить не трудно, достаточно сопоставить жизнь ребенка в современных европейских и архаичных культурах по некоторым характеристикам.
Во-первых, на «машине детства» резко сказывается распад пралогического мышления. Мы говорили, что для пралогического мышления ребенок не просто ребенок, а еще и некоторая магическая сущность, душа, развитием которой надо управлять особыми ритуально-обрядовыми методами. Поэтому и жизнь ребенка разделена на отрезки ритуалами роста. В европейских культурах ритуалы роста отсутствуют; те же немногие, что сохранились, лишены всякого магического значения. Еще одно следствие исчезновения пралогического мышления — исчезновение веры в потусторонний, божественный контроль за поведением. В архаичных культурах ребенок, как и взрослый, живет в постоянном страхе перед вмешательством в его жизнь всевозможных духов, демонов и т. п. Современный европейский ребенок твердо знает: если кого и надо бояться, то только папу с мамой да еще чуть-чуть учителя. И учитель для него уже не носитель магической силы, божьей мудрости, а человек. Человек, который больше знает, умеет, может, а все-таки человек, со всеми его человеческими слабостями.
Но это далеко не все изменения в работе «машины детства». Ведь меняется не только мышление людей, но меняется и общество, семья. В архаичных культурах ребенок живет в условиях большой семьи — клана. Вместе, в одной хижине — бабушки и дедушки, дядья и тетки, племянницы, родители, братья и сестры. Родственные отношения очень сложны, запутанны, и во всем этом малыш должен разобраться с раннего детства, иначе ему придется трудно. Ведь с каждым из родственников надо обращаться по-особому, с соблюдением многочисленных табу. Не то в современных европейских культурах. Родственные отношения упрощены до предела. Семья: мать, отец, ребенок. Иногда — все реже — бабушка и дедушка. Согласитесь: жить в условиях такого общения если не теплее, то проще.
Наконец, самое главное. Мы уже говорили, что не успеет ребенок, живущий в архаичном обществе, стать на ноги и окрепнуть, как его уже поджидает суровая, полная нелегких обязанностей жизнь. Он и сам не замечает, как мало-помалу втягивается в труд охотника, рыболова или пастуха. У многих народов ребенок в 5 лет уже полностью самостоятелен и должен обеспечивать себя пищей. Конечно, и тут дети играют, но игра еще находится в зачаточном состоянии. Скорее это — игра-отдых, игра-манипуляция, чем развернутая ролевая игра.
Иными словами, самой главной особенностью архаичного детства является то, что большая часть времени ребенка, начиная с самых первых лет, посвящена обеспечению его собственных жизненных нужд. Хочешь есть — трудись, хочешь сохранять нормальные отношения со взрослыми — соблюдай многочисленные табу и предписания. И еще: не хочешь возбудить гнев духов — не делай ничего необычного, нестандартного, непредвиденного. С первых же шагов ребенок попадает в сеть жестких требований к его жизни и поведению. Разумеется, и в архаичных культурах есть и доброта, и нежность, и понимание… Но все же в столь суровых условиях трудно ожидать от родителей много нежности и доброты. Ведь это так сложно — быть добрым, когда твой хлеб достается тебе ценой тяжелых трудов, когда ты живешь под постоянной угрозой голода, болезней, стихийных бедствий, козней злых духов…
Другую картину видим мы в современных европейских культурах. Конечно, и тут маленький ребенок живет не в пустыне, а среди людей и должен подчиняться определенным требованиям: быть опрятным, вежливым, соблюдать моральные нормы… И все же, как мы уже говорили ранее, в современную эпоху в развитых промышленных странах впервые в истории появился и расцвел уникальный период жизни ребенка — период дошкольного детства. Период, когда малыш полностью освобожден от необходимости заботиться о насущных нуждах и все свое время может безраздельно посвятить свободному творческому саморазвитию. А для этого есть все условия: бесчисленные конструкторы, модели машин, домов, людей и животных — чего только не придумает изощренная фантазия взрослых, создавших целую индустрию игрушек! Детские книги, теле- и радиопередачи, кинофильмы, театральные спектакли и цирковые представления. Посмотрите на карусели, качели, горки, площадки для игр, на аттракционы в парках и садах. Везде и всюду видна работа сотен тысяч взрослых людей, направленная лишь на одно: сделать жизнь детей ярче, разнообразнее, развить их мышление, разбудить воображение. И все это для ребенка бесплатно, все дают ему его добрые гении-хранители — мама и папа. И пусть капризы малыша вызывают родительский гнев, пусть ребенка даже накажут, все равно через минуту он будет прощен, накормлен, обласкан.
Общение ребенка и взрослого, при котором взрослый удовлетворяет потребности малыша, не рассчитывая ничего получить взамен, мы назвали бескорыстным. Что дает ребенку такое общение? Конечно, освобождает его от забот о хлебе насущном, предоставляет время и материал для свободного творческого саморазвития. Это мы уже знаем. Но только ли это?
А может быть, ощущение доброты взрослого человека, отсутствие страха перед взрослым дает малышу смелость быть независимым, способствует развитию самостоятельности мышления, раскрепощает его творческие потенции? Может быть, такое общение создает для ребенка ту самую творческую атмосферу, о которой мы говорили в предшествующей главе? Попробуем провести эксперимент.
Воспользуемся тем, что в некоторых детских садах отношение воспитателей к детям мало напоминает родительское. Скорее это отношение строгих учителей к ученикам. Воспитатели учат детей на занятиях, ухаживают за ними, но не бескорыстно. Взамен они требуют беспрекословного послушания, подражания. Короче, жизнь ребенка в таком детском саду скорее напоминает труд, чем свободное саморазвитие. Особенно на занятиях.
Возьмем две группы детей. С одной группой занятия будет по-прежнему проводить строгий воспитатель с его требованием беспрекословного послушания. Для другой группы ситуация будет иная. В каждом занятии (физкультура, математика, лепка, рисование, родной язык и др.) будут участвовать двое взрослых. Один взрослый станет играть роль воспитателя: задавать детям задания, показывать, как их выполнять, и т. п. Другому предназначена роль ребенка. Он должен сидеть вместе с детьми, выслушивать и выполнять задания. Поскольку он «ребенок», у него не всегда все будет получаться. Взрослый-воспитатель должен время от времени просить кого-нибудь из детей показывать, как он научился выполнять задание, а других — контролировать и, если понадобится, поправлять малыша. Не избегнет этой участи и взрослый-ребенок: он должен будет «подставлять себя» под критику малышей и «учиться» у тех, кто усвоит задание лучше. А чтобы роль воспитателя или ребенка не «прилипала» к какому-то одному взрослому, попросим их каждую неделю менять друг друга. И еще один принцип поведения взрослых: полная доброжелательность в отношении к детям, уступчивость, открытость. Наказывать детей, даже говорить строгим голосом можно в самых крайних, чрезвычайных обстоятельствах.
Чего мы этим достигнем? Построим модели двух разных стилей общения ребенка и взрослого: стиля, свойственного отношениям, складывающимся в процессе школьного обучения и трудовой жизни, и стиля, характерного для отношений родителей и детей в хороших семьях. В одном случае взрослый всегда обучает, командует, а ребенок учится, подчиняется. Тут взрослый как бы приподнят над детьми, защищен своей властью и авторитетом. Его эмоции, чувства закрыты для малышей. Он может наказать ребенка, а ребенок его — нет. Взамен того, что он делает для детей, взрослый требует беспрекословного подчинения.
В другом случае взрослый отказывается от своего авторитета и власти, общается с детьми на равных, доступен их критике; не только учит, но и сам учится у них. И никакого беспрекословного подчинения. Можно ходить на занятиях от стола к столу. Можно мешать взрослому. Можно дернуть товарища за рукав, отобрать авторучку. Если взрослый чем-то недоволен, он просит (но не приказывает) ребенка не делать этого. Не забывает он и второй задачи: учить детей тому, что положено по программе.
До начала эксперимента с детьми обеих групп были проведены уже известные читателю опыты на творческую независимость с целью определить, в какой степени ребенок может проявлять независимость в поведении и не подражать ошибочным действиям сверстника и взрослого. Оказалось, что дети обеих групп проявляют независимость очень слабо и примерно в равной степени.
Бескорыстное общение с детьми длилось 5 мес. Вначале малыши были озадачены столь неожиданной ситуацией: они привыкли учиться, а тут надо еще и учить, и не только своих товарищей, но и взрослого. Вскоре ошибки взрослого стали вызывать дружный смех; дети охотно и активно исправляли их. Разумеется, не все относились к ошибкам всерьез; некоторые воспринимали данную ситуацию как игру и охотно включались в нее. Наконец, малыши привыкли к своей новой роли; даже самые пассивные стали стремиться исправить и поучить взрослого.
Интересно складывалось эмоциональное отношение детей к добрым взрослым. В первые дни это было сочетание любопытства и сдержанности. Затем малыши разделились на три группы. Детям первой группы такие взрослые почему-то не понравились; малыши стали агрессивными (дергали взрослых за одежду, за волосы, мешали вести дневниковые записи, грубо разговаривали с ними). Дети второй группы были ласковы, улыбались, часто обращались с вопросами, но особой активности в общении не проявляли. Наконец, дети третьей группы сразу же привязались к необычным взрослым: на занятиях стремились сесть рядом, вне занятий ласкались к взрослым, признавались в любви и очень грустили, когда те уходили. В ходе работы отношение агрессивных детей к взрослым изменилось, и к концу года все малыши стали проявлять симпатию и дружелюбие.
Не скроем, в первые месяцы проведение занятий с детьми требовало от взрослых выдержки и значительного напряжения сил. Дисциплина на занятиях ослабла. Не встречая жесткого отпора со стороны взрослых, дети чувствовали себя свободно; некоторые вставали со своих мест, шалили, не реагировали на просьбы воспитателя. Казалось, ничего не получится и придется воспользоваться старым испытанным методом — наказанием. Однако через 2—3 мес. произошло неожиданное — дисциплина восстановилась. Малыши, хоть и совершенно не боялись взрослых, стали считаться с их просьбами. На занятиях внимательно выполняли задания, не шалили. Вне занятий прекратили грубые игры со взрослыми. «Дисциплина страха» сменилась «дисциплиной любви».
Но, пожалуй, самым интересным было то, что у детей появилось активное желание творчества, стремление варьировать предлагаемые воспитателем образцы, выполнять нечто сверх заданного. На разных занятиях это выражалось по-разному. Например, на занятиях родным языком дети начали разнообразить ответы; при отгадывании загадок сами стали придумывать загадки; на физкультурных занятиях, выполнив требуемое движение, самостоятельно повторяли его в других вариантах. Но особенно ярко стремление к творчеству проявилось на занятиях лепкой и рисованием. Конечно, дети сначала лепили и рисовали то, что предлагал воспитатель, но обязательно прибавляли что-нибудь свое (к чайнику из пластилина — чашку и блюдце, к корзинке — грибы или цветы и т. п.).
Чего же мы достигли? Оказалось, что после эксперимента независимость поведения наших детей намного возросла, а независимость детей из группы с традиционным стилем общения осталась на том же уровне. И второй интересный факт: число творческих элементов, вносимых в дополнение к образцу при лепке и рисовании, у наших детей было в несколько раз больше, чем у детей первой группы.
В этом методе важно еще одно — то, что в ходе его применения воспитываются не только дети, но и воспитатели.
В самом деле, как построен обычный, авторитарный метод? Он однонаправлен. Его цель — изменить ребенка, но не воспитателя. Воспитатель повернут к ребенку лишь одной своей стороной. Он выступает как идеальный носитель общественного опыта, образец для подражания. Другая же его сторона, свойственная любому человеку,— сомнения, колебания и ошибки — тщательно скрывается от детей. Основы такой ориентации в воспитании очень глубоки, они восходят к вере в идею «мудрого пастыря», «доброго царя», наконец, «непогрешимого руководителя», которого нельзя критиковать, которому можно лишь подчиняться. Эта вера наивна, но, увы, она глубоко укоренена в нашей культуре, и не только в сфере воспитания, но и в сфере производства, политики, даже науки. Горькие плоды этой веры мы пожинаем сейчас.
Напротив, при демократическом стиле воспитания воспитатель как бы развернут перед ребенком. Он и носитель опыта, и в то же время человек с его естественными слабостями и способностью ошибаться. Как на рисунках Пикассо, объединяющих в одном портрете и фас и профиль, воспитатель предстает перед ребенком не «плоско», а «объемно», как объект уважения и критики одновременно, как тот, кто учит, но и сам способен учиться у своих учеников. Выигрыш тут очевиден и для ребенка (активность, ощущение равенства со взрослым), и для воспитателя (не нужно все время изображать из себя идеал, зная, что таковым не являешься). Но трудно, ох как трудно бывает обычно воспитателю принять этот стиль. В роли носителя опыта он выступает охотно, согласен даже отказаться от строгих наказаний. Но вот играть роль ребенка для него часто не по силам: тяжело преодолевать усваивавшийся годами авторитарный стереотип. А что, если попробовать обойтись без смены ролей?
Так мы и поступили в следующем эксперименте, проведенном с группой 5-летних детей. В течение всего опыта (4,5 мес.) воспитатель играл привычную для него роль образца (правда, были запрещены наказания), а психолог — роль ребенка. В целом ход опыта был подобен вышеописанному, за одним только исключением — не было падения (и последующего восстановления) дисциплины. Это и понятно: ведь сохранялся ее авторитарный «гарант» — воспитатель. Хорошо это или плохо? Как посмотреть. Хорошо, потому что не требовало от взрослых труда для преодоления беспорядка, сопровождающего истинно демократический стиль на его первых этапах. Плохо, потому что дисциплина так и оставалась авторитарной. Тестовые опыты показали, что и при таком методе независимость детей значительно возрастает, и не только по отношению к «альтруистичному» ассистенту, но и по отношению к «авторитарному» воспитателю. Это тоже легко понять: ведь в глазах детей воспитатель «терпел» присутствие ассистента в группе и даже подыгрывал ему, а следовательно, и сам терял для них часть своей авторитарной «непогрешимости».
А применим ли подобный метод в школе? Психолог Т. С. Семенова организовала обучение такого типа на уроках во II классе. И учитель, и ассистент поочередно играли роль образца (вели обучение по обычной школьной программе) и роль ученика (делали ошибки в диктантах, арифметических задачах и т. п., а учащиеся контролировали их действия, исправляли ошибки). В параллельном, контрольном классе обучение шло в рамках обычного, авторитарного стиля. Сравнение показало, что демократический стиль общения не только не мешает хорошему усвоению программы, но и делает его более прочным, устойчивым, а также резко повышает активность усвоения, инициативность и независимость в суждениях у учеников.
Значит ли это, что один стиль надо полностью заменить другим, целиком изжить авторитарность? Отнюдь нет. Хочу еще раз сказать: у каждого стиля свои задачи. И если в одних ситуациях (управление в экстремальных условиях, борьба с преступностью и т. п.) авторитарный стиль нужен и неизбежен, то в других (воспитание детей, управление людьми в обычных условиях, общение) он может быть неэффективен и даже вреден. Вся мудрость, все мастерство воспитателя (политика, экономиста и др.) как раз и состоит в том, чтобы использовать авторитарную власть лишь в исключительных, соответствующих ей обстоятельствах и избегать авторитарного стиля в условиях нормального общения (обучение, воспитание, труд). Да, демократичность, альтруизм в общении — это нелегко. Но без них не будет движения вперед.
Вот теперь мы можем с большей уверенностью сказать: бескорыстное, доброе отношение взрослых к детям не только освобождает им время для игр. Такое отношение способствует творческому раскрепощению ребенка. Дает ему смелость и силу проявлять независимость в поведении. Иными словами — быть личностью.
* * *
Итак, в современной европейской «машине детства», конечно, при том, что в ней отражены классовые различия, возникает период, когда общественные требования к ребенку минимальны, а возможности для творческого саморазвития — максимальны. Когда суровая реальность с ее сложностями и тяготами еще не дает о себе знать, как бы скрывается за спинами добрых гениев — взрослых, а все потребности ребенка удовлетворяются, будто из рога изобилия. Когда за один день малыш успевает поменять десять профессий, слетать в космос, победить дракона, построить дом, захватить пиратский корабль. Когда нет груза ответственности и страха перед неудачей, голодом, болезнью. Когда добро торжествует, а зло бежит. Когда твердо уверен: завтра будет так же радостно, как и сегодня, а на горизонте будущего — безоблачное небо.
И все это достается детям в приданое без всякого труда. Малыш не понимает, каким сокровищем обладает. Не ведает, что переживает лучшее время своей жизни, время, которое никогда не повторится. Откуда ему знать, сколько веков мучительного прогресса понадобилось людям, чтобы добыть ему это наследство.
Безоблачные годы дошкольного детства быстро забываются. Малыш стремится быстрее стать взрослым. По счастливому недоразумению жизнь взрослого кажется ему идеалом. Ведь взрослый имеет все то, что пока недоступно ему. И ребенок без сожаления оставляет позади свои лучшие годы, не оглядываясь, мчится вперед — к заветной и обманчивой цели.
Но годы эти не проходят бесследно. Миллионами невидимых нитей вплетаются они в ткань человеческой жизни. И как знать, не будь их, может быть, не было бы у нас ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Цветаевой.
Да и мы с вами были бы другими.
* * *
Итак, мы видим, что современное дошкольное детство — плод многотысячелетнего исторического развития, итог длительного экономического, социального и культурного прогресса. В современных развитых странах оно достигает наивысшего уровня своего развития, обеспечивая детям максимально благоприятные условия для творческого, свободного и гармоничного развития.
Целью исторического движения является всемерное расширение таких условий, которыми смогут пользоваться не только дети, но и люди всех возрастов.
Тысячелетиями мечтали люди о золотом веке. Веке, когда не надо было бы добывать хлеб в поте лица своего, когда не было бы ни голода, ни болезней, ни страха, ни старческой немощи… Им казалось, что золотое время осталось в прошлом.
Но посмотрите на наших детей! Разве рядом с ними у нас не возникает чувство спокойствия, умиротворения, радости? Разве наши тревоги и неприятности на минуту не покидают нас?
А может быть, это далекое и счастливое будущее всех людей на Земле смотрит на нас глазами наших детей? Может быть, это оно преподнесло им волшебный дар — золотой век детства?
РАССТАВАЯСЬ С ЧИТАТЕЛЕМ
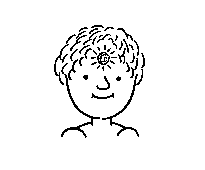
Вот мы и расстаемся, мой воображаемый собеседник. Пока все, что я хотел сказать о мире детского сознания, сказано. Хорошо или плохо — судить не мне.
Мы расстаемся, но мир ребенка остается с нами. Может быть, он даже стал нам чуть-чуть ближе. Для одних — понятнее, проще. Для других — сложнее, чем представлялся раньше. Для третьих — просто интереснее.
Мир детства, внутренний мир ребенка — ключ ко многим волнующим проблемам нашей жизни. И отнюдь не только психологическим. Правда, сейчас мир взрослых занят проблемами посерьезнее, чем проблемы развития детской психики. Но хочется верить: настанет время — и люди поймут, что загадки формирования детского сознания — это загадки, присланные нам будущим. Это — замки, лишь подобрав ключи к которым мы сможем открыть дверь в завтра. Творческие, интеллектуальные, нравственные возможности ребенка неисчерпаемы. Едва ли сегодня они используются на одну сотую. Раскрыть, реализовать их — задача невероятно трудная. Можно сказать, что мы живем над залежами драгоценных «полезных ископаемых» психики, зачастую и не подозревая о них.
Формирование нравственно-цельного, творчески мыслящего, инициативного человека — вот заманчивая цель, которая может быть достигнута в будущем на основе решения проблем детской психологии. Оно возможно лишь при условии содружества психологии с другими науками — физиологией, педагогикой, историей, лингвистикой, социологией, этнографией…. Для такого решения мало лабораторных исследований. Недостаточно и локального, точечного внедрения результатов науки в практику. Нужны широкие социально-культурные преобразования. Изменение «винтиков» и «гаек», а то и целых «блоков» «машины детства».
Слов нет, это великие задачи. Но не будем столь утилитарно-приземленны. Не будем смотреть на проблемы развития детского сознания лишь сквозь призму практических интересов. А разве видеть и понимать, чувствовать мир ребенка своей мыслью и сердцем цель недостаточно заманчивая? Разве простое понимание мира не дает людям высокого наслаждения? Не является своего рода интеллектуальной практикой?
В мире вещей, в мире природы, в мире объективных законов ищет наука разгадки мировых тайн. Да, успехи ее велики. Тысячелетиями верой и правдой служили человеку вода, ветер и колесо. И вдруг — за считанные столетия — паровые машины, двигатель внутреннего сгорания, электричество, телевидение, полеты в космос! Но и — порох, пушки, военные самолеты, ядерные ракеты. А изменился ли человек внутренне? Велик ли нравственный прирост цивилизации? Он есть. Он подарил нам современное детство, великие идеалы будущего гармоничного общества и многое, многое еще. Однако не слишком ли этого мало? Не слишком ли быстро умнеет «ум» по сравнению с «сердцем»? Не лежит ли решение проблем — нет, не благоденствия, не процветания — самого существования человека на Земле не вне человека, а внутри него? И в том числе — внутри детской психики, детского сознания?
Но фундамент, на котором строится мир ребенка, должен быть кем-то заложен. И к закладке такого фундамента — основы не одного, а тысяч и миллионов детских сознаний — причастен каждый из нас.
Учебное издание
Субботский Евгений Васильевич
РЕБЕНОК ОТКРЫВАЕТ МИР
Зав. редакцией Л. А. Соколова
Редактор Т. Б. Слизкова
Младшие редакторы Ю. В. Иконникова, М. И. Ерофеева
Художник В. И. Тильман
Художественный редактор Е. А. Михайлова
Технические редакторы Т. Н. Зыкина, Н. А. Васильева
Корректор М. Ю. Сергеева
ИБ № 12957
Сдано в набор 07.06.89. Подписано к печати 10.11.89. Формат 60х901/16. Бум. типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 13,0+0,25 форз. Усл. кр.-отт. 13,5. Уч.-изд. л. 15,09+0,42 форз. Тираж 600 000 экз. Заказ № 569.
Цена: в переплете № 7 1 р. 60 к, в переплете № 5 1 р. 40 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 129846, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.
Саратовский ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 410004, Саратов, ул. Чернышевского, 59.